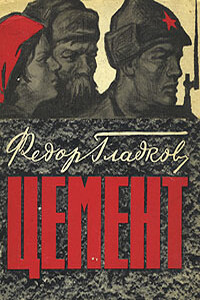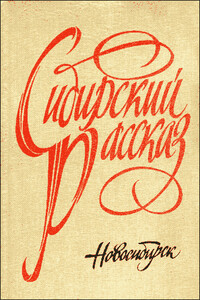Повесть о детстве | страница 77
— А ты вспомни, Фома Селиверстыч, — с веселой хитрецой заметил Володимирыч, — как Степан Тимофеевич Разин да Емельян Иваныч Пугачев с барами воевали. Крестьчнская была война, правильная война, из-за земли, против крепости. Емельян-то Иваныч и здесь, в наших местах, был.
Бабушка молодым голосом с живостью пропела с печи:
— А как же… ведь Оленин-то куст и сейчас в Сосновке целый. На нем барыню Олёну пугачи повесили. Дуб-то этот и не старится. Деауика-то Селиверст всем нам показывал.
На этом дубу сколь после мужиков перевешали! Да еще плетьми при народе тела-то рвали. до костей. А у неких кишки из живых выматывали… Мотают, мотают, а те смеются: бают, щекотно больно…
— Ну-у, понесла кобыла, да лягнуть забыла — пренебрежительно оборвал ее дедушка.
Мне было приятно сидеть бок о бок с Егорушкой и слушать Володимирыча. Занятно было следить и за взрослыми: они раскрывались передо мною по-новому. Мне казалось, что отец боялся Володимирыча больше, чем деда. Он ненавидел старого швеца и чуждался его, как будто прятался от него. А дед хорохорился перед Володимирычем и все старался показать, что он перед своим богом достойнее и праведнее швеца, что швец — не самосильный мужик — ошметок человечий, бездомник и нищий. Но я видел, что Володимирыч подавляй его своей мудростью и знанием жизни. Мне было обидно, что мать немела и тряслась перед дедом, что отец с трусливым озлоблением сносил его самодурство. А теперь и Катя вот согнулась и замолчала Сыгней и Тит, каждый по-своему, обманывали деда и всю семью: Сыгней пропадал из дому и выискивал всякие поводы, чтобы отлынить от работы по двору и не попадаться на глаза деду. Тит никуда не уходил и с парнями не знался, но у него была своя скрытая жизнь: он тоже исчезал внезапно из избы, но внезапно и появлялся. Я знал только, что он собирает всякие вещи и прячет их, что он даже тащит пуговицы, бляшки, подковы и всякие тряпки. Он был скупой, завистливый, и серые мутноватые глаза его подозрительно озирались. Я жил среди близких мне людей, которые не доверяли друг другу, считали «мирских» соседей отверженцами, а такого хорошего старика, как Володимирыч, и такого безобидного парня, как Егорушка, — погаными. А ведь Володимирыч всем помогал — и бабам по хозяйству, и мужикам в работе, и Егорушка не гнушался поработать на дворе: он часто вскидывал на плечо коромысло с ведрами и шел за водой вместо матери или Кати.
— Война-то война, други мои милые… — словоохотливо говорил Володимирыч. — Только она не божье, а человечье дело. Разве это от бога, еже пи люди на войне тысячами гибнут, да еще в муках? За какие же грехи солдаты-то, — а ведь они мужики! — страдают? За что, к примеру, у Архипа ногу оторвали? А детей-то зачем убивают? Вот турки в болгарских деревнях всех жителей вырезали, а детей — за ноги да головками об стенку… Вступаем в деревню, а там все перебиты — и старики, и бабы, и ребятишки. Не бог, а жадность да зверство людское! Я на своей шкуре все претерпел, кровью плакал. Туг надо думать да думать…