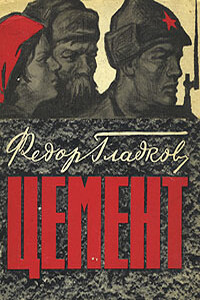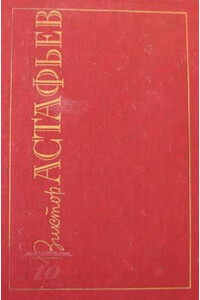Повесть о детстве | страница 6
«Мы рабы божьи… Мы крестьяне, крестный труд от века несем». Обращаясь к своим домочадцам, заключает: «Несть нам воли и разума, опричь стариков: от них одних есть порядок и крепость жизни».
Мера воспитания одна — «кнутом ее хорошенько»… Заведены и строго соблюдаются обычаи, большинство из которых беспощадно подавляют в человеке даже намек на достоинство. Мечтает маленький Федя о новой шубе (а она даже не покупная, сошьет ее из домашней овчины за гроши здесь же, в избе, ходящий по домам швец Володимирыч), а бабушка тут же учит: поклонись в ноги, «головкой в дедовы валенки постукай и проси Христа ради…» Он так и сделает, хотя ему и невыразимо стыдно… «Но этим не заканчивался мой подвиг: сердито кричал отец и требовал того же. Приходилось елозить под столом и кланяться валенкам отца. Потом очередь наступала для Семы. Он это делал легко, уверенно, юрко, по давней привычке».
Пожалуй, вот это последнее — ловкость и юркость подростка Семы, привыкшего к рабскому обычаю, еще страшнее унижения маленького Феди…
Побои, унижения, оскорбления — они каждодневны, их уже не замечают. Вставали в избе затемно. Раньше всех подымался дед, «…снимал со стены трехвостку и стегал Сему, который спал на полу, на кошме, рядом с Титом и Сыгнеем. Сема уползал на четвереньках в чулан. Я кубарем слетал с печи и прятался под кровать, на которой сидел и одевался отец».
Но еще тяжелее гнета физического был гнет нравственный. Дед подавлял малейшую попытку не то чтоб мыслить самостоятельно, но даже говорить что-либо, не согласующееся с затверженными раз навсегда правилами. Дело усугублялось еще и тем, что семья была старообрядческая. Для деда Фомы всякое вольное слово «охально и губительно». Поэтому он властно прерывает всякий неугодный разговор каким-нибудь старинным поучением, совершенно непонятным для слушающих. «Но так как в этой угрожающей бессмысленности было какое-то пророческое предупреждение, какое-то гнетущее возмездие, «перст божий», неведомая сила, то все чувствовали себя пригвожденными к «немому смирению».
И как ужасно, что это «немое смирение» шло не от властей, не от многочисленных притеснителей народной жизни — помещиков, полиции, мироедов, и т. п. — нет, это было добровольное духовное рабство, культивировавшееся в семье, вбивавшееся в души с малых лет и до конца жизни…
А ведь происходило это не в какие-нибудь тмутараканские времена, а уже тогда, когда писали Лев Толстой и Достоевский, когда народовольцы подняли руку на самого царя, Ленин поступил в Казанский университет… А рядом миллионы и миллионы людей жили такой жизнью, как Федя и его семья…