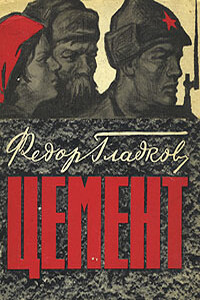Повесть о детстве | страница 47
Отец пытался возражать деду:
— Аль от бражки он самосильство потерял? С прошлого-то неурожая не один мужик по миру пошел, а то на сторону голыми да босыми убегали. А мы-то, батюшка, разве лебеду не ели? Чай, только и спаслись тем, что всю скотину продали да бабьи холсты спустили. Так и не оклемались с тех пор: на барской десятине работа — исполу, а у Митрия из долгов не выходили.
— Говори… Без тебя не знают, — обрывал его дедушка. — Ишь умный какой! Такие, как ты, без отца-то нищими бродят.
Отец угрюмо замолкал и сопел над валенком.
Приходил дядя Ларивон с длинной бородой, заправленной в полушубок. Отец и дедушка казались рядом с ним парнишками. Это был красивый мужик: борода у него спускалась до пояса, густая, в искрах, цветом как свежий хлеб, а длинная борода считалась у нас единственным украшением мужика. Лицо у него продолговатое, нос — прямой, как у святого на иконе, глаза темные, горячие, тревожные: то в них переливалась ласка и женская нежность, то они обжигали бешенством, то в них металась тоска. У нас его не любили и боялись. Иногда он приходил с ведром браги, ставил его на пол перед собою и пил жестяным ковшом.
Расстегнув полушубок, бережно вынимал бороду и разглаживал ее ладонью.
— К тебе, сват Фома, люди ходят ума-разума набираться, — говорил он с усмешкой в глазах. — И меня тоска погнала за советом. Вспомянешь сейчас тятеньку-покойника: он бы и на ум наставил, и пути-дороги указал. А барин Измайлов только глаза таращит да лается: «Всё вы дураки и оболтусы! У старика Фомы учитесь: он — как уж его не ущемишь ни за башку, ни за хвост — выскользнет, а клок урвет».
Дед хотя и хмурился, но был польщен: он чаще фыркал носом, и в белесых глазах его поблескивали искорки.
— Мы все живем на земле, сват Ларивон, — мудрствовал дед, уминая большими пальцами ремни шлеи. — И от нее не оторвешься. А с барином мы век провели. Барину поклониться — не на плаху голову положить. У барина Измайлова четыре десятины целины просил — у самого болота которая…
— Знаю… как не знать… — усмехнулся Ларивон. — Все дивились, как ты барина обдурил.
— Никогда она не пахалась. А Митрий Митрич за версту ее объезжал. Кланяюсь ему с этой докукой. А у него — глаза на лоб. «Зачем, бает, тебе эта гнилая земля, Фома?
Там и бурьян не растет». — «А я, бай, Митрий Митрич, не осилю пахотную-то: несходно мне — исполу да два дня тебе работать. А тут ты мне эту землицу-то из четвертого снова отдаешь без отработки». А он таращится на меня да бороденку дергает: «Дурак, бает, ты, а еще старик. Ни беса там у тебя не будет, только лошаденку надорвешь да с голоду сдохнешь. Гиблое, бает, место, — там и растенье ядовитое.