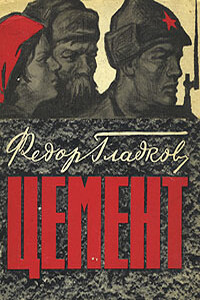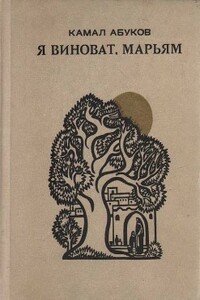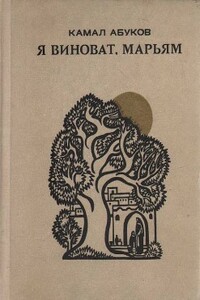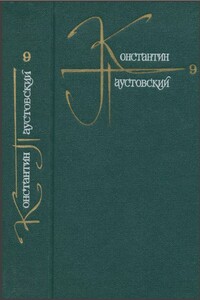Повесть о детстве | страница 198
Сема с торжеством подошел к Кузярю.
— Ну что, брат? Вот те и карусель. На твои карусели куры сели.
Кузярь все-таки упорно стоял на своем. Он встал и, шатаясь, бледный, храбрился.
— Да на этом рыдване только дуракам вертеться. Что это за вертушка, ежели летишь с нее вверх тормашками?
Какая же это игра? Ни радости нет, ни веселья, а только дуреешь да кишки рвутся.
Его мутило, и он едва сдерживал слезы. Сема принес ему шапку и надвинул на лоб.
— Ну, а сейчас пойдем к нам — блины есть и чай пить.
— Да я не хочу, — заскромничал Кузярь, но глаза голодно блеснули, и он проглотил слюну, — Мамка все чего-то хворает: брюхо да брюхо… Я уж ей утром горшки накладывал, а сейчас на пары сажал. А тятька с лошадью возится.
Вот управился по дому и к вам прилетел.
Я подмигнул ему. Он посмирнел и послушно пошел рядом со мною, а Сема обнял Евлашку и повел его впереди нас.
В избе все еще сидели за столом, разомлевшие, хмельные, с блаженными улыбками. Агафон, уже пьяный, обнимал и целовал Миколая Андреича. В сизой бороде его застряли крошки и капли. Дедушка разошелся вовсю — сипло кричал, размахивая руками:
— Анна, как мы век-то прожили? Дай бог, чтобы дети наши так трудились да рачили и веру мужицкую держали от дедов-прадедов. Гнали нас, теснили антихристовы слуги — попы, чиновники, полиция да господа, а мы, поморцы, друг за друга стояли. Никак они нас не совратили… никак не сломили… Свою жизнь вели по нашему произволению… Прадеды-то наши с поморья пришли. Дубы были — ни перед мечом, ни перед кнутом страха не имели. И нам так жить завещали. А теперь все пошло вкривь и вкось. Дети-то вон из дому норовят.
Бабушка ласково уговаривала его, но уже не стонала — она тоже была навеселе.
— А ты не жалуйся, отец. Что тебе надо-то. Живы, сыты — и слава богу. Гляди, сыновья-то — кровь с молоком, такие же крепыши, как ты. Девок-то вон за каких мужиков выдали!.. Трудились, отец, на чужое не зарились. И ты, как гамаюн, беспокоился, и в селе-то не последний по уму да по труду.
Тетя Паша с сердитым и веселым лицом, крепкая, ядреная, крикнула с гневным задором:
— Ты чего, тятенька, стонешь да покойников беспокоишь? Не слушала бы тебя! Чай, мы не хуже стариков-то.
Они за господами жили, в хомуте ходили, а сейчас нам труднее — на свои силы надейся. Трудись да оглядывайся, как бы тебя за горло не схватили. На бога надейся, а сам не плошай. Не стонать надо, тятенька, а рукава с умом засучивать. Я плясать буду, тятенька! Аль ты забыл, какой ты плясун был? Выходи, тятенька, со мной! Помнишь, как ты на моей свадьбе плясал?