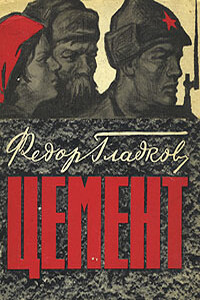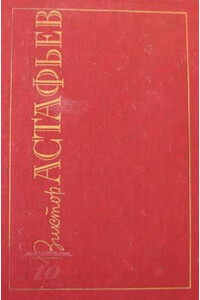Повесть о детстве | страница 13
Среди них были и мечтатели, и обличители, и мстители.
Я много встречал в юности хороших людей, но люди, с которыми я жил одной жизнью в деревне, до сих пор близки мне как первые мои друзья Это были те русские люди, которые не сгибались под гнетом насилия и которые имели дар видеть свет и во тьме и предчувствовать радость будущего.
Я думаю, что мои сверстники, вспоминая о минувшем, найдут в этой книге много созвучий с тем, что пережито ими, а молодежь почувствует, что ее свобода и счастье — это воплощение в действительности заветных дум и стремлений их отцов, прошедших трудный путь борьбы против эксплуатации, гнета, бесправия, борьбы во имя торжества коммунистического идеала и творческого величия человека.
I
Тело матери дрожит и корчится. Она всхлипывает и задыхается. Я встаю на колени и сам начинаю дрожать от страха. Окна ярко-зеленые от инея. На печи — могучий храп дедушки. Я прислоняюсь спиной к деревянной стене и вижу, как по избе проходит какая-то огромная тень… Я щупаю лицо матери — оно обжигает меня влажным жаром Я боюсь кричать, боюсь отца, боюсь этой темной тени и плачу тихо.
Рука отца толкает меня на подушку…
— Лежи ты!.. Спи! Заболела мать-то…
Его шепот, сердитый, угрожающий, но он мне кажется чужим, растерянным, дрожащим от испуга.
— Мама, не надо, — шепчу я, задыхаясь от слез. — Не надо… я боюсь…
Но мать не слышит меня: она всхлипывает, взвизгивает, бьется на кровати.
— Господи, беда-то какая!.. — стонет на печи бабушка. — Васянька, вздуй ты, Христа ради, огонь-то. Не вижу ничего — не упасть бы. Вот уж бабу-то взяли — назола какая!
Это Олёнка ее сглазила… Олёнка-то, чай, только бога и молила, чтобы в нашу семью войти.
Бабушка не ворчит, а поет — не то стонет, не то причитает.
Отец растерянно бормочет:
— Тут не знай, что делается… Так ее всю узлом и свивает… Титка! Сыгней!
— Ее связать бы сейчас… — ворчит Сыгней — неженатый дядя, молодой парень. — Кликуша она. Кликуш вязать вожжами надо и шлею надеть… Надеть шлею с жеребой кобылы да уздой ее…
Отец встает с кровати и в зеленом мерцании окон расплывается жуткой тенью. Все становится нежизненным, колдовским.
Стена шевелится и шуршит очень близко, у самого уха.
Это тормошатся в щелях тараканы.
Храп деда потрясает стены, и в груди у меня все дрожит и трясется. Деда все боятся: дед — наш владыка и бог. Он — маленький и юркий, как таракан, но его холодные, серые глаза под густыми клочьями бровей остры и неотразимы.
Я не выношу его колючих глаз, этой серебряной седины, и его окрики пронизывают меня, как удары.