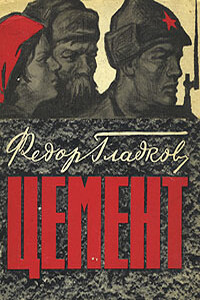Повесть о детстве | страница 106
— Тебя и учить нечего: ишь ручки-то какие ловкие да проворные! Это хорошо, ежели в руках работа играет. Цена-то ведь человеку по работе дается: у спорого мастера, говорят, руки золотые. Знавала я таких мастеров. Они за работу-то с молитвой принимались, с чистой душой.
И она начинала рассказывать через силу, но с охотой о прошлой своей жизни. Вероятно, ей неудержимо хотелось выложить все, что у нее было на душе. Длинные ночи были для нее, покинутой, одинокой, мучительны, как пытка, и она рада была и ленивому рассвету, и моему приходу. Пусть я был еще маленький, но я был живой человек, который приносил с собой жизнь, а мое мальчишечье сердце светилось любовью и привязанностью к ней.
— В Кизляре я жила у одного купца по виноградному делу в винном подвале. И был там бондарь — всем мастерам мастер, Павлом звали. Лучше его дубовые бочки никто не делал: как из меди литые. Мужик одинокий, бродячий, всеё Россию исходил и нигде не мог места постоянного найти. Уж в годах был — этак за сорок… и с сединкой. Росту невысокого, бородка кудрявенькая, курносенький и запивать любил. А запивал-то как раз в то время, когда у него работы было по горло. Сидит в бондарне, пьет, вцепится руками в голову и поет заунывно: «Устали мои белы руки от работушки, устали от недоброй, от недоброй, от немилой…» Придешь, бывало, по хозяйским делам: «Скоро, мол, Павлуша, за бочары-то возьмешься? Хозяин и рвет и мечет». А он ударит по верстаку кулаком и кричит: «Ага, рвет и мечет — чет да нечет! Я для него не бочары, а гроб дубовый сколочу». И улещает меня: «Наташа, уйдем куда глаза глядят, — пойдем с тобой счастья искать». — «Что ты, говорю, Павлуша: для нас, подневольных, счастья на белом свете нет. На горе уродились, — в горе и умрем». А сама ему песней отвечаю: «А и горе, горе-гореваньице, а и лыком горе подпоясалось, мочалом ноги изопутаны…» Упрямый он был мужик: бьет кулаком по верстаку, а лицо у него страшное. «Бочары проклятые меня жрут, Наташа. Горой на меня валятся. Своими же руками обручи на себя набиваю…
А оно, Наташа, в моих руках, счастье-то. Эх, каких бы я дел наделал!..» И вот однова приходит ко мне в подвал, отводит в сторону, разворачивает платок и подает мне шкатурочку махонькую, а шкатурочка красоты неописанной.
Вся-то она, как кружево сплетенное, из крошечных-крошечных палочек, и палочки-то все друг за дружку держатся, а на стеночках-то птички да цветочки из блесточков да разноцветных стружечек собраны. Я так и ахнула да чуть не заплакала от дива такого. Глядит он на меня и смеется: «Эту, говорит, шкатурочку, я тебе, Наташа, целый год делал, всю душу вложил. Эх, говорит, Наташа, этим бы рукам слободу дать… чего бы они не сделали!» Долго я берегла эту шкатурочку, да не уберегла. Увидал ее у меня раз хозяин мой, бурдюк такой толстый, мордастый, да и сцапал. Жила я с артелью в бараке. А хозяин держал нас взаперти, чтобы не баловались. И все в вещишках рылся. Ну, сцапал шкатурочку-то и орет: «Воровка, такая-сякая, говорит, где ты украла эту драгоценность? В остроге тебя сгною!» И утащил. «Я — к Павлуше, плачу и в себя прийти не могу. А он покачивает головой и посмеивается: «Ничего, Наташа, не убивайся: другую лучше сделаю. Хоть и в неволе, говорит, мои руки, а все-таки эти руки — мои, и что я захочу для души, то и сделаю». Вог как, Феденька… Золотые-то руки — праведные.