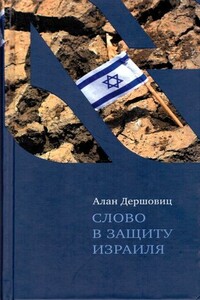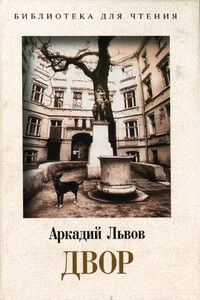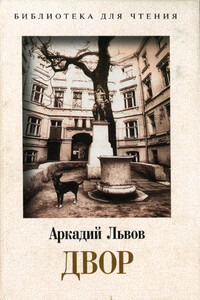Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 94
Именно по этой причине — что факт крещения «оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки», какая дана законорожденному в православной вере, — никогда не проходило у Пастернака ощущение некоего самозванства, а отсюда, в целом и в частностях, незаконности своего жизненного опыта: вроде свой, да не свой.
Нет, никогда не был он девочкой, и, сколько ни перевязываться ему поясом, хоть до обморока, хоть до полного беспамятства, не оборотиться ему было девочкой. Нет, не был он найденышем, не был приемышем, а был законным сыном некогда одесских, а по его рождении московских, евреев Леонида Пастернака и Розалии Кауфман.
Чтобы уйти от проклятых фактов и еще более проклятых вопросов — хуже того: вопросиков! — бытия, еще отроком, юношей Пастернак приучился — хоть, как помним, с детских лет помышлял о самоубийстве — сублимировать свое отчаяние в безоглядный оптимизм.
Весной пятьдесят девятого года — предпоследняя его весна — он объяснял Жаклине де Пруаяр: «Во время приступов самого глубокого отчаяния в мои юные годы я не переставал постигать, я не скажу мир или вселенную, но какое-то измерение вещей несравненно более широкое, чем мои личные испытания; и даже в слезах, на пороге отчаяния, я восхищался влекущим и все превосходящим величием природы, того бытия, которое было передо мной и надо мной и не было мною».
Изменчивость, переменчивость внешнего мира и бытия, которое перед нами и над нами, окончательно утвердила Пастернака в верности того наблюдения, что факт сам по себе противостоит правде, отрицает правду, ибо правда существует лишь как конструкция искусства, и в его власти конструировать правду, как велит ему его художническое, большого поэта — «Есть в опыте больших поэтов…» — чутье.
Отталкиваясь от собственного еврейского «я», как от данности, которая не только что не устраивала его, а вызывала прямо негодование, с зубовным скрежетом, с бешенством, тоже, увы, от своих, от жестоковыйных, Пастернак открыл для себя, что и нравственные формулы относительны — не в общем, историческом, для всего человечества, а в чисто индивидуальном применении — и даже «Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вечное».
В материальном плане, по советским стандартам, поэт Пастернак, опираясь долгие годы на Пастернака-переводчика, был вполне благополучен. После войны среднемесячный его заработок составлял, по его словам, десять-пятнадцать тысяч рублей. За шесть, за семь лет набегал миллион — это стало нормой, не только нормой, но и предметом гордости: сколько ж их было по писательскому цеху в стране рабочих и крестьян, чей доход исчислялся в миллион! Сотни тысяч, которые шли в последние его годы из-за границы, после «Доктора Живаго», не были ему в диковинку. И памятные пересуды, будто Запад, заграница соблазнили его длинным рублем — домыслы носорогов из идеологического ведомства ЦК, которые только так привычны работать: врубившись своим рогом в дерево, ежели дерево встало им поперек пути.