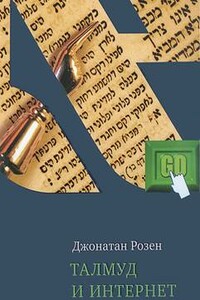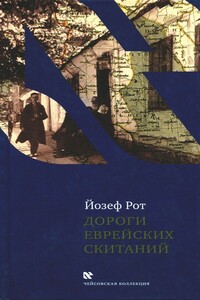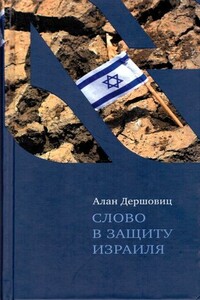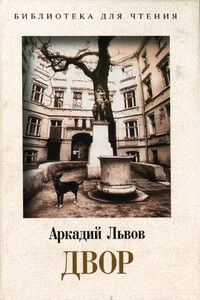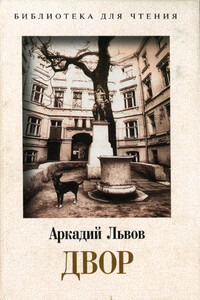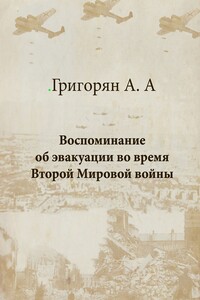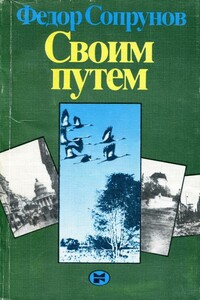Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 72
Принявши обет послушания, Осип не только в себе, в тщедушном своем теле, учуял большевика, но и всю страну, со всеми ее болями, дабы обеспечить ей нужное лечение, почел за высшее благо для этой страны — передать ее на полное попечение ВКП(б):
Но, Боже мой, разве для того рождается на свет еврей, чтобы приказывать своему сердцу «люби!» — когда на самом деле оно ненавидит! Разве для того четыре тысячи лет пестовали отцы веру в Единого, разве для того заклинали «не сотвори себе кумира!» — чтобы сыновья поклонились кремлевскому фетишу, в миллионах гипсовых идолов размноженному по всей великой, по необъятной Руси!
Ай, нет, не для того:
Это писано в ссылке, где боролся Ося «за воздух прожиточный», где заговаривал «сознанье свое… полуобморочным бытием», где, безумея от боли, от нескончаемой муки, кричал немым криком: «Свою голову ем под огнем!»
Не существуют испытания сами по себе, не существуют страдания сами по себе — существуют испытания и страдания каждого отдельного существа, нареченного человеческим именем, наделенного душой и телом, его единственного, его неповторимого Я: что одному щекотка — то другому конвульсия, что одному смех — то другому смерть.
Ося внушал себе: «Пою, когда гортань сыра, душа суха, / И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье». Но когда же не хитрило его сознание, если тут же открывалось, что шепчет Ося «обескровленным ртом», что «столетья окружают меня огнем», что даже ребро у Оси — и то горящее, не как у других людей. И помыслы, само собою, тоже не как у других людей: еврей Эйнштейн увидел, как сплющивается время. Еврей Мандельштам возжелал «услышать ось земную»!