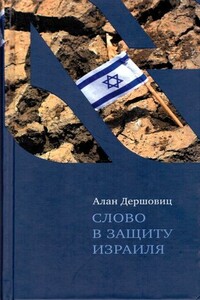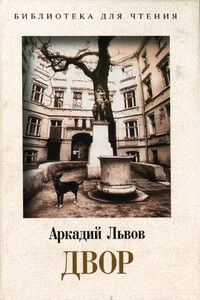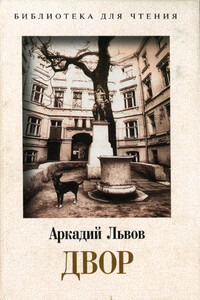Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 66
А живопись, что, не такая же область человеческого духа, как литература, живопись, что, вне законов психологии, у живописи, что, не человеческая ли душа — главный объект!
Тут уместно бы вспомнить еще музыку, но в музыке национальное начало — это до того уж тривиально, что и ссылаться неловко.
Если отрешиться от природы строительного материала — слово в поэзии и прозе, звук в музыке, а держаться психологической «подоплеки», черпающей свою энергию в национальных биобатареях человечества, поэзию следовало бы отнести к общему или, по крайней мере, близкому разряду искусства не с прозой, а с музыкой. Не берусь судить обо всех, но очень подозреваю, что у многих, в том числе у меня у самого, стихи обращены к тем же тайникам души, к которым обращена и музыка. Рихард Вагнер всю жизнь носился с мыслью, что музыкальная фраза может быть столь же предметной, как слово. Наверное, для него самого разницы и в самом деле не было, но едва ли по той причине, что музыкальная фраза обладала конкретностью и предметностью словесной. Скорее наоборот: не звук приближался к слову, а слово приближалось к звуку — как в подлинной поэзии, где некая будто бы незавершенность, незаконченность есть не что иное, как отраженное смятение, изначально свойственное человеческой душе, лишенной конечного знания, но обреченной вечно жаждать его.
Даже великий Спиноза, даже он, с его командорским призывом к человеку и человечеству non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere — не плакать, не смеяться, не проклинать, но объяснять — даже он, в беспрестанных ночных своих бдениях, чувствовал: конечное нам не дано, за порогом знания всегда стоит Тайна.
Четыре тысячи лет назад Тайна привела шумерского мальчика Аврама к Единому: нет Бога, кроме Бога! Почему его, Аврама-Авраама, почему не другого?
Почему полтысячелетия спустя человек, нареченный египетским именем Моше, Моисей, обратил свое слово к евреям, почему от них, а не от египтян потребовал он беззаветной верности Единому? Иные говорят: уже фараон Аменхотеп, переименовавший себя в Эхнатона, по имени единого бога Атона, которому он поклонялся, провозвестил идею Единого. Но кто был его бог, его Атон? Его, Эхнатонов, бог — это солнце: светило, которое дает жизнь травам, животным, людям, которое дает жизнь земле, светило, которое зрячий видит глазом, а слепой — осязает кожей.
Спрашивается: что общего у этого Атона, которого сегодня измерили чуть не до последнего миллиметра и взвесили чуть не до последнего грамма, с Единым, о Котором даже смешно думать, что можно приложиться к Нему с линейкой и весами! Больше того, что общего может быть у него, Атона-солнца — хозяин лишь в своем крошечном уделе, именуемом солнечной системой, пылинка во Вселенной, он такой же смертный пред вечностью, как и человек, — что может быть у него общего с Тем, что не имеет ни меры, ни времени, ни лица!