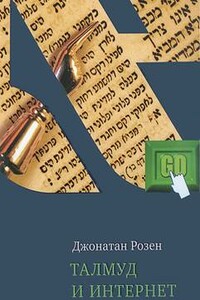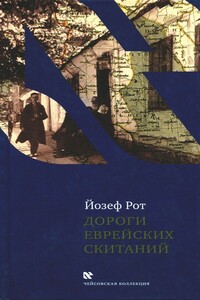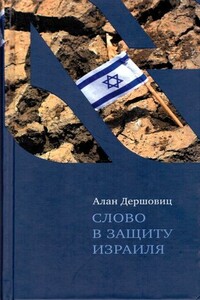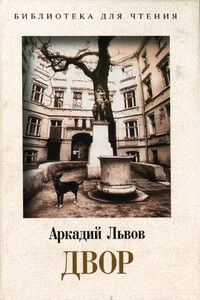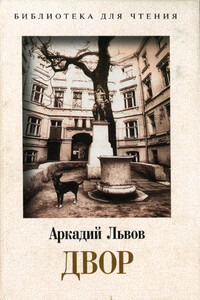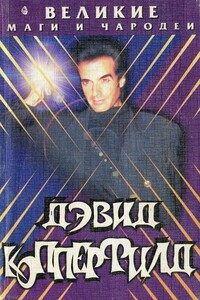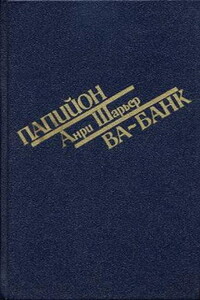Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 44
Но разве не с ним, этим веком, печатал Ося свой шаг на земле, разве не рядом оставляли они следы: тот — своих лап, этот — своей стопы? Как же, оглядевшись на следы одного, не увидеть следов другого, тем более что другой — это и есть он сам, Осип Мандельштам!
Ах, все перемешалось в беспутной Осиной голове, и, как во снах, не поймешь, где начало, где конец, и вообще, есть ли они, начало и конец, не порождение ли они нашего разума, который жаждет во всем усмотреть последовательность, порядок.
Но только ли разум жаждет порядка: а совесть, зовущая человека к истине, к Слову, разве не жаждет счета, который тот же порядок!
«Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было: Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете».
Ну нет, спасибо здесь не отделаешься: не перед другими — перед собой не отделаешься! Идет, грядет этот день — «1-e января 1924», и стареющий сын века, Осип Мандельштам, внук реб Вениамина, рви на себе одежды, как повелели отцы, кричи от боли, блудный сын, собиравший травы для племени чужого:
Когда белеет перед человеком собственная его совесть, тем более когда человеку этому уже тридцать три от роду, пора подводить итоги, кому окончательные, кому предварительные, сие, как говорится, не от нас зависит, не в нашей воле, но подводить итоги надо.
И Осип подвел:
Ну, как вам нравится этот итог! Грек из Македонии к этим годам успел сколотить мировую империю, еврей из Назарета — покорить мир, исключая, правда, своих, иудеев, а Осип Мандельштам насчет прожитых им тридцати трех лет, треть века, вдруг открыл: «То был не я, то был другой». Кто же это был? Ах, «какой-то соименник», притом весьма противный ему, Осе.
Еще несколько лет спустя, к сорока годам, Осип уже вовсе холодным глазом оглянется на то, что было некогда им, на того, кто был его соименником, мучившим себя по чужому подобью, и объявит во всеуслышание: