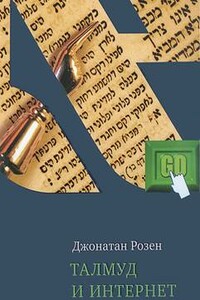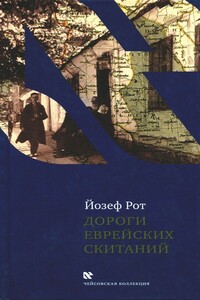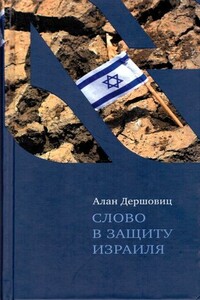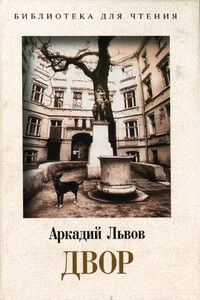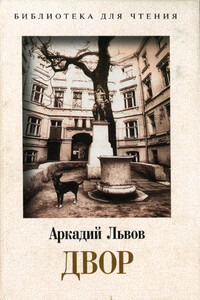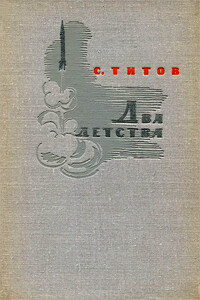Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 38
Тем же словом в Библии определяется и зелень листвы, и цвет золотистой нивы, и желтизна лица. Желто-красный шарлах со времен праотцов был у евреев культовым цветом — одним из четырех главных ритуальных цветов. Но какое дело до всего этого, до наследия отцов, Осе Мандельштаму, если рижский дедушка, который не знал ни слова по-русски — бабушка хоть одно слово знала: «Покушали? Покушали?» — набросил внучку на плечи черно-желтый платок, а внучка от этого забрали страх и удушье!
Много лет спустя, в Александровой слободе, Осю вновь обуяли страх и удушье — в этот раз от бычка. И Ося бежал от него, как последний трус. Марина Цветаева, добрая русская душа, пыталась обелить Осю ссылкой на вековой страх человека перед рогатым зверем. Обелить, конечно, можно, ну а поскрести, что ли, возбраняется!
Старик Мандельштам жаловался, что жена, вильненская еврейка Флора Вербловская, отняла у него детей. Сын его, Ося, сообщает, что мама Флора была первая в роду, дорвавшаяся до звуков чистой русской речи, и вместе с бабушкой, которая еще не дорвалась, с гордостью произносила слово «интеллигент».
Еврейская Гаскала, просвещение, во второй половине минувшего века шла об руку с ассимиляцией. Но уже на рубеже XIX и XX веков самые образованные, самые талантливые евреи — Жаботинский, Ахад-Гаам, Ан-ский (Рапопорт) — каждый на свой лад закричали: гевалт! куда нас несет! куда девается наше еврейство! Это было как раз то самое время, когда Ося забросил в книжную рвань Моисеевой мудрости свою древнееврейскую азбуку, с местечковым мальчиком в картузе — героем всех азбучных историй.
Представляете себе первые Осины впечатления: с одной стороны, вонючие папины кожи и касриловский еврейчик в картузе, а с другой стороны — Летний сад, боярышни с боннами и сам царь! Но самое ужасное, что в глубине, в недрах, в тайниках души, Ося и сам чувствовал себя всю жизнь этим касриловским еврейчиком в картузе. В тридцать седьмом году, воротясь из воронежской ссылки в Москву — оставалось ему жизни тогда уже немногим более полутора лет, Осип, усевшись с гостем и Анной Ахматовой на матраце, главном богатстве своей меблировки, шутил о своем жидовстве: «Бессарабская линейка. Обнищавшая помещица со своим управляющим, а я — жид».
Годы его подходили уже к пятидесяти, а он видел себя тем же касриловским жидком в картузе, естественно, с клеймом времени на иудейском своем Я — воистину гробе повапленном!
В годину наивысшего накала души, когда не было смысла долее рядиться в чужие хламиды, когда маски, которыми облеплено лицо, становились невмоготу, ибо не только легкими, но и кожей дышит человек, Осип в иудейском своем исступлении, в приступе тысячелетнего гнева, от пращура своего, разбившего Господни скрижали, крушил чужих богов, которые, случалось, бывали и его богами: «Какой извращенный иезуитизм, какую даже не чиновничью, а поповскую жестокость надо было иметь, чтобы после года дикой травли, пахнущей кровью, вырезав у человека год жизни с мясом и нервами… Вы произносите в своем постановлении страшное слово „травля“ — так, между прочим, как какой-то пустячок».