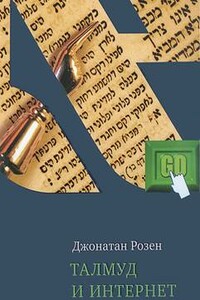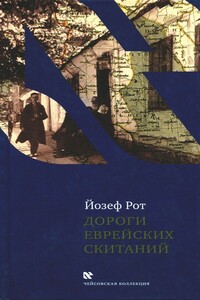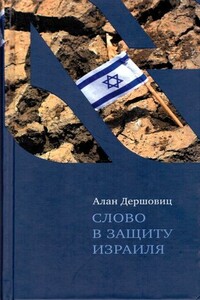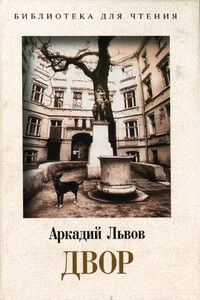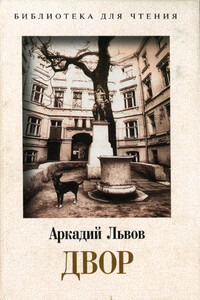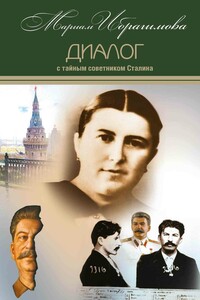Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 27
Разве может еврей, с университетским образованием, обладать женщиной просто так — как одномоментной данностью, а не Историей, пусть не всей Историей, а куском ее, пусть не в четыре тысячи лет, как его собственная, а хоть в тысячу!
Необразованный еврей, воображение которого не столько обогащено знаниями, сколько распалено, развращено ими, не может этого никак!
Княжной Саломеей Ося обладал только в своих ночных видениях:
А Марина Цветаева была реальность, такая реальность, что уж реальнее и не бывает:
Заметьте: не бродили, а «гуляли». Кладбище, с крестами, с могильными холмами, с имярек, почившими в Бозе, — тоже История. Тут и воображения особого не требуется — достаточно одного контраста: жизнь и смерть. Тут от самой антитезы так завертит, закрутит, замотает, что не только прогнать нечистого, ахнуть-охнуть не успеешь, как с ног — да на землю:
«Те холмы» — это Крым, где тоже гуляли и тоже История, да плюс еще география:
Но, увы, ничто не вечно под луной: и владимирский русский град Александров с неистовой его Мариной стали Осипу невмоготу.
Чужое, чуждое все. Марина вспоминает: «Монашка пришла… Мандельштам шепотом: „Почему она такая черная?“ Я так же: „Потому что они такие белые!“ …У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков?..»
Да все вместе, а главное, чужое! Боится, хотя, казалось бы, чего бояться? — Ося, «но на монашку (у страха глаза велики!) покашливает. Даже пользуясь ее наклоном… глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.
„— А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана. — Мандельштам, это вам кажется! — И обвалившийся склеп с костями — кажется?“»
Ну, как вам нравится готовый обратиться в православную веру этот богатырь, боящийся ладана! И вообще, о чем говорить, — достаточно вспомнить присловье, какое в ходу на Руси с незапамятных времен: «Бояться, как черт ладана». Или чуть по-другому: «Бежать, как черт от ладана».
Монашка так врезалась ему в память — уже и сама Марина чудилась ему монашкой! — что и в стихи вошла она как примета беды: