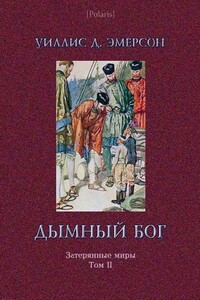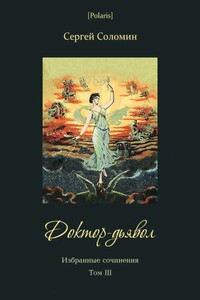Конец Петербурга | страница 57
Но есть предел всему, даже аппетиту людей, не евших более суток. Мы набили свои желудки до пределов невозможного и сочли долгом отдохнуть. Возлегши на кровати в лучшем из номеров, мы стали заниматься приятными разговорами.
Теперь даже грозное будущее показалось нам в более розовом свете. Мы высказали твердую уверенность, что должны быть еще поезда, что нас так не оставят и, набираясь понемногу светлых надежд, решили, что, вероятно, поезд уже тут. Надо было сходить, посмотреть! Сейчас же мы снялись со своих удобных мест и отправились в путь.
Но увы! На Варшавском вокзале погром уже кончился, и народ расходился после представления. О поездах не было, конечно, ни слуху, ни духу. Мы отправились на Николаевский вокзал.
На Знаменской площади босой субъект с всклокоченными волосами и открытой грудью взлез на телегу и зычным трагическим голосом проповедовал собравшемуся вокруг него народу. Мы из любопытства подошли послушать.
— Летит ангел Господень с огненным мечом, летит и как ударит! Как полыснет, так и расступится земля, и полетим мы в геенну огненную. Ух! Вот он, Страшный суд-то! И станут нас пытать-спрашивать: что вы делали, зачем грешили, псы смердящие? Ох, жарко будет там! Покайтеся, православные! Ниц, падите ниц, и отверзите сердца своя! Пред Господом надо предстать с покаянием. Все он, Милостивец, знает, что и мы забыли. Ты, небось, забыла! — бросил вдруг проповедник бабе, внимавшей ему с дрожью.
Та вдруг как завопит:
— Ой, жжет мою душеньку, жжет, вот так и пылаить! Окаянная моя голова: сгубила я робеночка. Своим рукам задушила, в речку бросила…
— У, лютая грешница! — гремел проповедник. — Не будет тебе прощения!..
— Ой, не будет, не будет! Так у него, родненького моего, глазки и закатилися, давнула я, а они и закатилися…
Глядя на нее, и другие бабы стали голосить. Дальше уж мы не могли выдержать и поскорее ушли, чтобы не слышать этих визгливых воплей отчаяния, этих выкликаний, режущих душу и бьющих по нервам стопудовым молотом.
На Николаевском вокзале была мерзость запустения. Народ уже разошелся, и только несколько десятков еще уповающих устроились в комнатах без окон и дверей, время от времени выбегая на платформу при всяком подозрительном шуме и устремляя взоры в сторону Американского моста.
Пакгаузы уже догорели, сгорел и поезд, с которым добровольцы-машинисты устроили такую неблаговидную историю. Горела Боткинская барачная больница и колония Сан-Галли, и начинали загораться извозчичьи дворы на Предтеченской улице. Гарью пахло невыносимо.