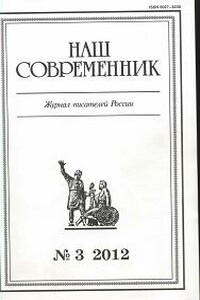Вечерний свет | страница 23
В то время было изобретено выражение «страшная сказка» — первым его применил министр пропаганды, — оно было ярче, чем бледные, затасканные понятия «ложь» и «клевета». Новый словесный оборот означал недопустимость разглашения тайны, которую знали все. Недопустимо было сообщать о фактах за пределами узкого круга, для которого они предназначались. Вскоре стали пытать людей, распространяющих ложь, будто в Германии пытают.
Я привык жить среди безумных. Я всю жизнь наблюдал, как безумие росло, как оно поражало другие страны. Только этим и можно объяснить, почему спустя десятилетия после войны тысячи людей утверждали, будто они ничего не знали о фашистских злодеяниях. Когда настойчиво уверяют, будто то, что ты видишь, попросту не существует, ибо, поверив своим глазам, поплатишься головой, то приходится выбирать между смертью и безумием.
После войны я встретился с подругой юности — мы не виделись пятнадцать лет. Я проговорил с ней весь вечер. Мы ничего не подозревали, ни о чем не догадывались, уверяла она, о, если бы ей хоть что-нибудь было известно о преступлениях, о которых она узнала после войны… Я напомнил ей о моем друге Г., задержанном тогда штурмовиками из СА, две недели он провел в застенке, потом ему удалось бежать. Она своими глазами видела, как Г. у меня дома снял рубашку, чтобы показать нам свою спину, она была вся в синяках от ударов. Помню, как она переменилась в лице, когда я вызвал у нее в памяти эту сцену. Ее чудесный взгляд, когда-то завороживший меня, был теперь взглядом женщины, с трудом просыпающейся от глубокого сна. Я услышал — как бы из далекой дали — ее прерывистый голос: «Это верно… ты прав… я припоминаю…» Сострадание боролось во мне с ужасом; я попрощался.
Летом или осенью 1933 года я, сидя в одном берлинском кафе, наблюдал за компанией элегантных молодых людей за соседним столиком, которые по очереди рассматривали иллюстрированный журнал и отпускали насмешливые или злобные замечания. Передо мной тоже лежал последний номер «Берлинер иллюстрирте», на многих страницах этого журнала, выходившего миллионным тиражом, был напечатан репортаж о концентрационном лагере Ораниенбург. Я видел на фото заключенных, которые волокли уличный каток, видел пылающие или потухшие глаза незнакомых друзей и товарищей, а сопроводительный текст возвещал, что путем сурового труда и дисциплины их надлежит вернуть в ряды народного сообщества{32}. «Мы чересчур миндальничаем со всей этой швалью», — заметил кто-то за соседним столиком. Много лет спустя я спрашивал себя, сколько миллионов людей прочли этот репортаж, скольким они еще рассказали о прочитанном. За соседним столиком обменивались замечаниями о еврейско-большевистской сволочи, об этих бритых головах, об этих лицах, словно почерневших от огня. Кто-то отпустил шутку, остальные разразились адским смехом. «Di rider finirai pria dell’aurora»