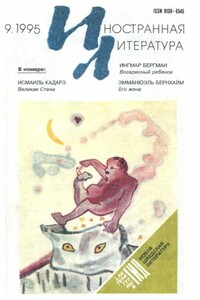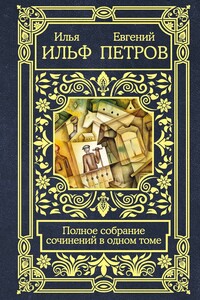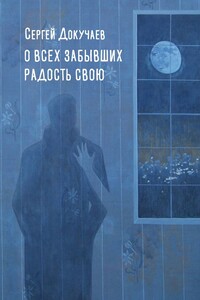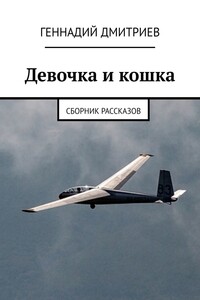Вечерний свет | страница 17
Я, пожалуй, преувеличиваю. Эти химеры еще живут, но они уже состарились, и современники все меньше обращают на них внимание. Когда ослабели мои страхи, когда они исчезли совсем, мне уже не вспомнить. Если я теперь освободился от них, это, конечно, не только моя заслуга. Способность рабочего движения обновляться поразительна, я это почувствовал и на своем опыте. Но, вспоминая прошлое, я уже не могу отвлечься от мысли, что, пытаясь прийти к согласию со всеми в вопросе, который был попросту неверно поставлен, я потерял за эти тридцать лет много сил, и это, вероятно, мешало мне писать больше и лучше. Я думаю об этом без тени сострадания к себе. Я был таким же, как и рабочее движение, к которому я примкнул, я разделял его зрелость и его незрелость, его величие и его слабости. Новые поколения, наверное, будет объединять то, из-за чего я был еще одинок.
Однажды, в детстве, я, сидя, как обычно, рядом с гувернанткой на дальнем конце обеденного стола, увидел, как незнакомый господин что-то оживленно говорил моему отцу, этот господин запомнился мне своим иностранным выговором. Отец слушал его, вежливо приподняв брови. Я, разумеется, помалкивал, зная, что дети за столом не должны мешать разговору взрослых. Да я и не прислушивался к разговору, который не слишком меня касался и не слишком интересовал. Обед кончился, и, когда незнакомец попрощался, отец сказал, что этот человек — русский, знаменитый художник Кандинский. «Он предлагает мне свою картину, — сказал отец, — но я не люблю его картин. Не люблю, потому что я их не понимаю». Бывали минуты, когда мой отец именно так, очень серьезно, негромко и мечтательно, говорил со мной, словно нисколько не сомневался, что я пойму его. «Но разве это важно, — продолжал он немного погодя, — разве это что-нибудь значит в вопросах искусства: «люблю», «не люблю»? Мне кажется, он большой мастер. Не всегда легко судить о произведениях искусства, иногда надо уметь выждать. Быть может, придет время — и я пойму Кандинского. Перед искусством надо благоговеть…» Вскоре после этого разговора он повел меня во дворец кронпринца и показал висевшие там картины Кандинского. Иногда отец звал меня в самую большую комнату у нас в доме, где в шкафу в строгом порядке хранились листы рисунков и акварелей, которые он не мог развесить по стенам. У моего отца было немало и других работ, но собирал он главным образом немецких художников начала девятнадцатого века. Он показывал мне какую-нибудь деталь в рисунке Каспара Давида Фридриха, графику Рунге, маньеристский этюд Блехена