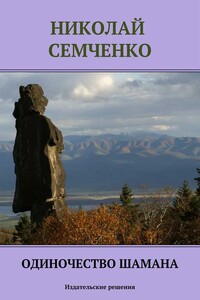Избранное | страница 32
— Памятники старины меня не волнуют.
Бондини испуганно покосился на Моцарта, но, поскольку тот смеялся вместе со всеми, Бондини понял, что дерзость Мицелли уже прощена.
Тут послышался шум отворяемой двери, голоса и приближающиеся шаги. Да Понте поспешил к зеркалу, чтобы бросить последний взгляд на свой парик. Визит прославленного старца изрядно увеличивал его самодовольство. Тереза Бондини, как бы в поисках защиты, прижалась к мужу — без сомнения, она немного играла. Тереза любила изображать примерную супругу, хотя было доподлинно известно, что она наставляет Бондини рога. Вторая Тереза, Сапорити, склонная к полноте и не ладившая с Моцартом, использовала общее замешательство и опустошила бонбоньерку, оказавшуюся в пределах досягаемости… При других обстоятельствах ее непременно остановил бы грозный взгляд принципала.
Раздвинулись тяжелые портьеры, и общество увидело, как старец, уже вступивший на порог, посторонился, чтобы пропустить хозяйку дома. Иозефа покраснела, но пройти первой отказалась. Шевалье с обворожительной беспомощностью развел руками и одновременно поклонился собравшимся. Душек всех представил. Мужчинам Казанова протягивал кончики холодных пальцев, дамам целовал руку. Лишь возле Моцарта он задержался на секунду долее обычного, чуть заметно приподнял тяжелые веки, сказал «А-а-а» и снова обратился к Иозефе.
— Дорогая моя, — сказал он с нарочитыми модуляциями, прижимая к кружевному жабо маленькую правую руку, затянутую в перчатку, — quanta rarissima cosa![3] Я живу, я дышу — пусть я всего только фавн, заблудившийся среди муз и граций.
Все засмеялись, Бондини поспешно придвинул изящное золоченое кресло, крытое бархатом, и Казанова опустился в него.
— Вообразите мои чувства, — продолжал он. — Человек с моим темпераментом, с моим положением в обществе попадает в захолустье, в этот Дукс! Просто ощущаешь себя заживо погребенным.
Он тяжело вздохнул и снял перчатки. На указательном пальце его левой руки красовался великолепный сердолик.
— Надеюсь, шевалье извинит мою индискретность, — вступил директор театра Бондини, явно желая блеснуть осведомленностью, — но, если верить слухам, светлейший князь де Линь все минувшее лето наслаждался обществом того, кто воплотил в себе самый блистательный ум нашего столетия.
Польщенный, Казанова издал блеющий смешок.
— Он и впрямь был здесь, светлейший князь. Он оказал мне честь. И он поистине достойный человек! Кто бы не тщеславился его дружбой? Однако… заставит ли он забыть? Деревня! Заброшенный замок! Куда там — просто склеп! Я отдаю предпочтение жизни! — Он словно бы вырос.