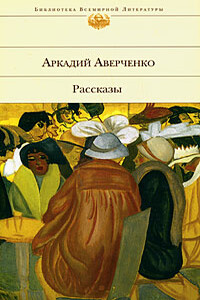Солдатские ботинки / Японская зажигалка из Египта | страница 5
— Не тушуйся, парень, все образуется, — ободрял он меня. — И тебя скоро выпустят. Ты ж ни в чем не виноват…
Я и сам знал, что не виноват, но попробуй докажи, что ты не верблюд! С губы меня перевели в тюрьму, дознание повела военная прокуратура. Первый раз в своей небогатой событиями жизни я наткнулся на глухую стену, которую не прошибешь и тараном. С монотонностью приходского дьячка, был такой на Николаевском кладбище, поминавшего за упокой живых и мертвых, я изо дня в день флегматично рассказывал о случившемся, и в сотый раз следователь, аккуратно заплевав окурок, брал изгрызенную ученическую ручку и деловито предлагал:
— Набрехался? Теперь говори правду. Не укрывай тех, кто подбил тебя на диверсию. Назови их имена, где они тебя завербовали. Мы все знаем, но если ты не признаешься, тебе же хуже будет. Да и трибунал при вынесении приговора учтет твои чистосердечные признания.
Я задыхался от собственной беспомощности, люто возненавидел своего мучителя. Рыжий, моложавый, с розоватой, поросячьей кожицей на сытеньком лице, он любил пить круто заваренный чай с сахарином и часами блаженствовал, не обращая на меня внимания. В конце концов и он возненавидел меня. В какой-то момент потерял над собой контроль, выскочил из-за стола и замахнулся кулаком. Я уклонился от удара и с наслаждением пнул его массивным солдатским ботинком пониже живота. С той поры у двери при моих допросах торчал часовой с карабином, а я пять суток провел в тюремном карцере. Там ни встать, ни лечь, в полной темноте по мне сигали бесстрашные крысы. Зато следователь стал вежливее, держался на расстоянии и меньше говорил о диверсии. А вскоре мое невольное бомбометание окрестили преступной небрежностью.
Судил меня трибунал открытым процессом в ленинской комнате школы младших авиационных специалистов. Курсанты мне сочувствовали, из-за спин часовых подбадривали улыбками, взглядами, в перерыве передавали махорку, пайки хлеба, кусочки сахара. Как я им завидовал! Ладные, подтянутые, загорелые, они, счастливцы, вот-вот сержантами поедут в действующую армию, а мне «цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала…» Скрывая навертывающиеся слезы, я наклонялся, пряча лицо, и горячие капельки, одна за другой, через диагональ галифе обжигали колени.
Приговор был суров: восемь лет заключения с пребыванием в исправительно-трудовых лагерях. Не помогли мои мольбы, обращенные к судьям, отправить штрафником на фронт, дать возможность искупить несуществующую вину своей кровью. Отказали! Слушать не захотели! В тюрьме перевели из подследственной камеры к осужденным, ожидающим этапа в лагерь, вечером принесли два чистых тетрадных листка, ручку и чернила. Апелляцию я писал командующему Сибирским военным округом, где просил заменить лагерь действующей армией.