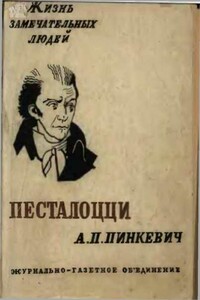Моя жизнь. Мои современники | страница 15
Если, несмотря на такое свободное воспитание, я все же был мальчиком дисциплинированным и послушным, то главным образом благодаря огромному нравственному авторитету матери. Ибо она была женщиной выдающейся не только по уму, но и по всему своему духовному облику. Не только я, но и все знавшие ее испытывали на себе ее обаяние, любили ее и боялись ее осуждения.
С тех пор, как я себя помню, помню свою мать постоянно болеющей: бронхиты, воспаления легких, плевриты… По-видимому у нее был медленно прогрессирующий туберкулез, обострявшийся и снова затихающий. Врачи много раз посылали ее лечиться за границу, чаще всего на французскую Ривьеру. Из этих путешествий, в которых я ей сопутствовал, она всегда возвращалась с восстановленным здоровьем, которое снова расшатывалось от петербургской зимы.
Но в хрупком теле моей матери жил дух необыкновенной силы и крепости. Эта маленькая, иссохшая от болезни женщина вся горела умственными, духовными и общественными интересами. Читала много книг исторического, философского и религиозного содержания, следила за политической жизнью и за литературой. Розовато-оранжевые книжки «Revue de deux mondes» и красно-оранжевые «Вестники Европы» до сих пор мне напоминают семейную обстановку моего детства.
В период моего раннего детства, в 70-х годах прошлого века, русская интеллигенция еще сохраняла любовь к бесконечным спорам, доводившимся до виртуозности более старым поколением, выросшим в режиме Николая I, когда эти кружковые споры были потребностью мысли, лишенной возможности более широкого распространения. Моя мать, принадлежавшая по возрасту к поколению, непосредственно следовавшему за знаменитой плеядой славянофилов и западников, усвоила от них эту любовь к спорам. Спорила с увлечением, до самозабвения. При этом никогда не могла усидеть на месте, бегала по комнате, жестикулировала, не замечая, что платок, всегда покрывавший ее плечи, давно упал на пол, что чепчик на голове съехал на сторону, и только кашель, начинавший ее душить, останавливал поток ее речей.
И каких только споров мне не приходилось слушать, притаившись где-нибудь в уголке так, чтобы взрослые меня не заметили и не отправили спать. Споры о религии, политике, педагогике, о литературе, главным образом о появлявшихся тогда романах Тургенева. Я, конечно, многого не понимал, но как-то проникался свободолюбием и каким-то бесконечно честным и правдивым духом своей матери.
Свободолюбие и правдолюбие были основными эмоциями ее души. Ложь и раболепие она ненавидела во всех видах. Поэтому, будучи глубоко верующей христианкой, она не переносила церковного ханжества и осуждала обрядовую сторону православия, противоречащую заветам Христа; поэтому она ненавидела самодержавие, но вместе с тем осуждала народовольцев не только за пролитие крови, но и за ложь и обман, неразрывно связанные с их конспиративной деятельностью. А в частном быту и в педагогической работе она выходила из себя от соприкосновения с ложью и фальшивой неискренностью. Мне часто приходилось слушать, как она пушила учениц своей гимназии за какой-нибудь проступок. Но стоило ученице сознаться в своем «преступлении», как гнев ее проходил немедленно и разговор кончался в самых дружественных тонах. А ученицы боялись не столько ее гневных криков, сколько ее морального осуждения.