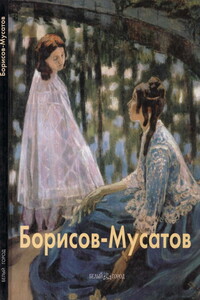Аркадий Рылов | страница 22
Картина с успехом была показана на 1-й государственной свободной выставке произведений искусства в Петрограде в 1919 году. Справедливо писал Федоров-Давыдов, что в этой картине Рылов выразил «ощущение вырвавшейся на свободу жизни», «свое личное жизнерадостное состояние» - как и состояние многих своих собратьев по искусству, «потому, что естественные для 1917 года переживания тревоги, напряженности, ожидания и нервозности разрешились как бы вздохом облегчения»[1 А.А. Федоров-Давыдов, с. 75.].
Но вместе с тем, «воспитанные в старом мире, они, разумеется, не представляли себе ясно ни задач, ни сути совершившегося переворота, ни его конкретного содержания. Но это была для них та очистительная буря, которой давно ждали лучшие люди России»[>2 Там же, с. 74.]. Таким образом, здесь выразился идеализм, присущий в это время немалой части творческой интеллигенции.
Река Оскол. Весенний мотив. 1910
Костромской объединенный художественный музей
На природе. 1933
Государственная Третьяковская галерея, Москва
«Работать становилось трудно. Мысли заняты только тем, как бы съесть чего-нибудь. Восьмушка фунта хлеба, полагавшаяся гражданину по карточке на день, проглатывалась сразу, и дома больше не было ни крошки, ни сахара, ни чаю... Иногда вместо хлеба выдавали полфунта овса... От голода лицо мое начало отекать, колени выступали, как у индуса», - вспоминал о революционных годах художник[>3 А.А. Рылов. Воспоминания, с. 198.].
Не менее тяжелым обстоятельством этих лет была для Рылова невозможность выехать летом на природу. Чтобы восполнить это, он записался в «семинарий» по изучению Павловска, что позволило ему ездить туда на экскурсии, во время которых вместо осмотра дворца он жадно писал этюды.
На Мойке, в доме купца Елисеева, был создан Дом искусств, где сохранилась обстановка и можно было получить обед. В Доме искусств устраивались персональные выставки, и Рылов в 1920 году показал там 120 своих работ. Опорой для художников было Общество имени Куинджи, хотя, конечно, от капитала, завещанного Куинджи, не осталось и следа. В первые послереволюционные годы там «по средам и пятницам собирались художники, худые, изморенные голодом, с опухшими лицами. Ни уличная темнота и жуть, ни шальные выстрелы, то и дело раздававшиеся в потемках, не останавливали художников, спешивших вечером в среду своих товарищей, в уютный уголок к кипящему самовару, где было светло, сравнительно тепло, где можно поговорить о своих изоделах, поспорить, поиграть в шахматы»[