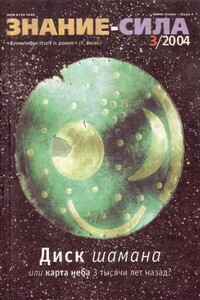Знание-сила, 2007 № 12 (966) | страница 27
Во-первых, это — демаркационные линии внутри самого искусства: между принятыми в нем жанрами; стилями; материалами. Во-вторых, между искусством и художественно «незакодированной» реальностью: искусство так и норовит вовлечь в себя эстетически необработанную жизнь, причем не то чтобы обработать ее (как делало искусство прежних времен), но вовлечь такой, как есть — «сырой». В третьих, между произведением и его реципиентом: слушателем-зрителем- ощупывателем... он, правда, может быть понят как разновидность «сырой» реальности.
Первое, при всей его, часто, неудобовоспринимаемости — понятнее всего: даже соединяя разные свои элементы в небывалые прежде комбинации, искусство все еще остается собой. Но что происходит, когда оно вторгается в иные области? Причем в те, которые испокон веку считались противоположными ему: в повседневность, она же банальность; природу (противоположность созданному волевым усилием), науку с технологиями (рациональное в противоположность образному). Все это искусство ставит себе на службу.
Повседневность оно приручает давно и успешно, еще со времен Марселя Дюшана и его реди-мейдов: композиций из предметов повседневного употребления и их элементов. Не первое десятилетие осваивается природа: художники, создавая картины, используют природные материалы в чистом виде: землю, снег, грязь, траву, пепел, кровь, чужое и собственное тело. Композиторы — на равных правах с музыкальными звуками — оперируют естественными шумами. А московские концептуалисты в последней четверти ХХ века (Андрей Монастырский, «Коллективные действия») включали в структуру своих «Поездок за город» само пространство.
М. Дюшан. «Фонтан». 1917 г.
М. Дюшан. «Вращающиеся стеклянные пластины». 1920 г.
К середине 1990-х дело дошло до науки. Технику художники начали осваивать раньше, чему, в частности, обязано своим существованием кинетическое искусство — создание движущихся, иногда и светящихся, звучащих, даже саморазрушающихся конструкций. Такое создавали еще конструктивисты 1920-х. Теперь в дело вовлекаются технологии генной инженерии. Возникает немыслимая прежде эстетическая область: химерное, или трансгенное искусство. Оно создает новые организмы с неведомыми природе комбинациями генов — в эстетических целях, используя генетические и биохимические методы: неогенез — правку генетического кода, чтобы задействовать в построении организма аминокислоты, не используемые земными формами жизни; дегенез — нокаут генов или генетических структур, чтобы задать организму новые свойства; трансгенез — извлечение генов или генетических структур из клеток и внедрение их в клетки других организмов[