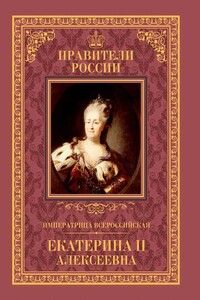Император Всероссийский Александр II Николаевич | страница 32
Ярким примером того, что значение новых учреждений, созданных реформами, не всегда было понятно самому императору, стал эпизод с одним из авторов Судебных уставов, М. Н. Любощинским. Пожелав отправить того в отставку за участие (как позже выяснилось, мнимое) в оппозиционном выступлении столичного земства, самодержец с удивлением и негодованием узнал, что согласно утвержденным им самим Судебным уставам сенатор Любощинский, как и прочие судьи, пользуется правом несменяемости. Надо отдать должное Александру II: закона он не нарушил и не отменил. Впрочем, у императора были и другие способы добиться желаемого: как лояльный подданный Любощинский немедленно выразил согласие уйти в отставку по своей воле (но был в итоге прощен).
Помимо прочего, эта история еще раз подтверждает очевидную истину: помимо законов, права и прочих формальных институтов очень многое в жизни страны определялось и неформальными правилами. Изменить привычки и стереотипы было, конечно, гораздо сложнее, чем принять те или иные законы. Только время и постоянство могли быть гарантией таких перемен. К сожалению, далеко не всегда эти условия были налицо. «Хорошо, теперь у нас есть неплохие законы, надо бы подумать о создании людей, которые смогут их использовать во благо страны», – мог бы сказать император. И начать с себя.
Империя
Помимо прочего, освобождение крепостных воспринималось Александром II (и не только им) как шаг на пути к новой, европейской легитимности российской монархии. Ведь нация, прежде разделенная на «рабов» и «господ», получала возможность осознать себя единым организмом – нацией граждан.
Надо иметь в виду, что европейский XIX век – это не только эпоха индустриализации и разнообразных революций, но и век становления национальных движений и государств. Люди, обособленные в разных сословных группах и корпорациях, осознают себя частью единого целого – нации, а монархи, в свою очередь, все чаще предстают как (используя современный нам лексикон) национальные лидеры. Проще, конечно, было тем из них, чьи подданные легко «склеивались» в одну нацию. Гасконец и бретонец, саксонец и баварец при всех своих различиях были все же больше похожи друг на друга, чем, скажем, венгр, румын, австриец и чех – жители многонациональной империи Габсбургов. Российская же империя была еще более разнообразной по своему религиозному и этническому составу. Кто только не был подданным русского императора во второй половине XIX века: мусульмане, католики, протестанты, иудеи и буддисты (и, само собой, православные); татары, черкесы, армяне, грузины, поляки, финны, казахи, украинцы, литовцы, немцы… перечислять можно очень долго. Как же объединить это умопомрачительное разнообразие в единое национальное государство? Или, может быть, Российская империя – особый тип государства, которое и не подлежит унификации и выравниванию? Но что тогда будет объединять ее жителей, столь непохожих друг на друга?