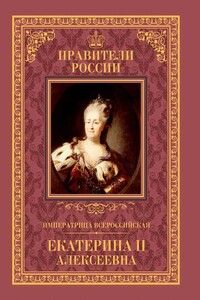Император Всероссийский Александр II Николаевич | страница 30
Библиотека в Зимнем дворце.
Конечно, не обошлось и без политических демонстраций: земства разных губерний тут же стали требовать общегосударственного представительства. Этим охотно пользовались консервативные советники императора, внушая ему мысль о необходимости «обуздать» земства, «поставить их на место» и так далее. В каком-то смысле все это было естественным проявлением процесса взросления и общества, и бюрократии, их взаимной притирки. Однако трудности на этом пути часто оценивались обеими сторонами неадекватно, всячески раздувались и рассматривались как какая-то вечная и неустранимая противоположность интересов государства и нации. Возможно, что-то не так было в конструкции самих органов самоуправления: слишком резко была проведена грань между ними и коронной администрацией. А может быть, конфликтам способствовали многочисленные страхи власти: боязнь потерять контроль, поступиться прерогативами, проявить слабость.
Александр II. 1860-е гг.
И все же, несмотря на все сложности, самоуправление работало. К концу века эпитет «земский» воспринимался в обществе не просто позитивно, он стал своеобразным знаком качества во многих сферах местной жизни. Земские учителя и школы, врачи и больницы, земские статистики стали неотъемлемой частью российского провинциального пейзажа и политической культуры.
То же самое можно сказать и о новых преобразованных судах. Надо заметить, что дореформенные суды были в стране настоящей притчей во языцех. В качестве символа чего-то устаревшего, косного и неправедного суды вполне могли поспорить с крепостным правом. В своем знаменитом стихотворении «России», написанном в патриотическом порыве в начале Крымской войны, славянофил А. С. Хомяков делал именно суды первым символом того, что николаевская Россия недостойна своей вселенской освободительной миссии. Россия, по его очень хлестким словам, была
Судебная система тех лет действительно способна была привести в отчаяние любого, кто с ней сталкивался. Самыми распространенными ее характеристиками были «бездушие» и «формализм». В николаевской России министерство юстиции и подчиненные ему суды стали символом равнодушия и застоя. Сложная и архаичная формальная система доказательств, отсутствие публичного состязания сторон вели к неповоротливости и непрозрачности судопроизводства. Дела могли длиться десятки лет и решаться совершенно неожиданным образом, ведь состязались не люди, а бумаги. Усугубляла положение фантастическая некомпетентность судейских чиновников и на местах, и даже в высшем суде империи – Сенате, куда зачастую «за выслугу лет» назначались чиновники, не имевшие никакого отношения к праву.