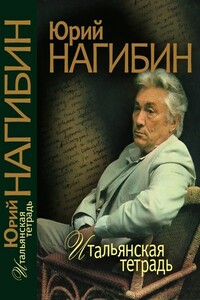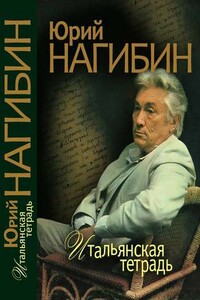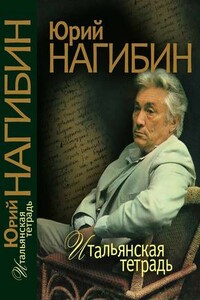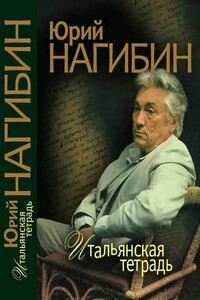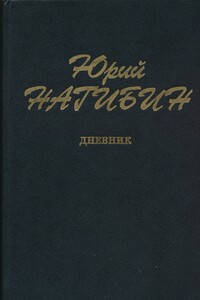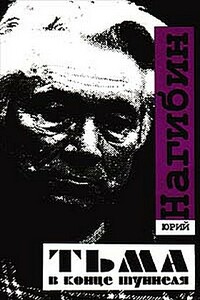О любви (сборник) | страница 47
Постепенно, еще в госпитале, он научился пользоваться укороченной ступней вполне сносно, чуть подсобляя себе кленовой тросточкой, которую сосед по койке, старый солдат-вологжанин, умелый резчик по дереву, украсил затейливым узором. В госпитале он научился и кое-чему другому, не менее важному. Его не переставала удручать встреча с немцем. Было такое чувство, будто отпущенный восвояси немец и произвел тот выстрел, который выбил его, Петрова, из строя. Он решил никому и никогда не рассказывать об этом случае и в самом себе заглушить унизительное воспоминание.
Смесь из растерянности, отвращения и великодушия могла быть оправдана лишь последующей суровостью воина, беспощадного к врагам и к собственной жизни. Но не очень-то похоже, чтобы ему позволили теперь воплотиться в образ беспощадного воина. Врачи упорно поговаривали о демобилизации. А голубоглазый немчик, если не заплутался окончательно в ничейном лесу, наверняка очухался от потрясения и заиграл автоматом на гибель кому-то из наших. Вот почему недопустимо великодушие на войне. Правда, не стоит брать на себя лишнее — великодушия в его поступке не так уж много, совсем чуть-чуть, но все-таки было, а еще хуже все остальное — растерянность, душевная квелость, смятение и черт знает что еще.
Сам не понимая зачем, в одну из бессонных ночей, когда снотворное не могло пересилить боли в отрезанных пальцах, Петров доверился соседу по койке, старому солдату-вологжанину. Старому солдату было едва за тридцать, но он воевал уже третью войну: был под Халхин-Голом, на финской и с первого дня впрягся в Отечественную. Солдат выслушал его спокойно, не перебивая, лишь порой скрываясь под одеялом, чтоб сделать затяжку — в палате курить запрещено, — и, чуть усмехнувшись, сказал: «Это что! В первом бою, когда командир нас поднял, я все портчонки замочил. Хорошо, в степях солнце горячее — обсохло, ребята не заметили». У Петрова что-то оборвалось внутри — пусть не впрямую, но старый солдат уподобил его поступок этому крайнему сраму. «Да я не от страха, — сказал он с тоской. — Сам не пойму с чего». — «А это и есть страх, когда сам не поймешь с чего. На войне многое так делается, и кабы только рядовыми! Потом, конечно, пообвыкнешь, хотя, чтоб вовсе страх прошел, такого не бывает. И ты не верь, если кто загинать начнет. Я четыре раза награжденный, обо мне цельная капделашка в газетах написана: бесстрашный воин и всякая фигня. А какое, к лешему, бесстрашие, когда ты весь мясной и мягкий и ничем не защищенный? Чепуха все это, пена. А что ты от немца пополз, а он от тебя — удивляться нечего. Тут бы и каждый очумел, когда в первый раз и чуть не рылом во врага ткнулся, — законное дело!..»