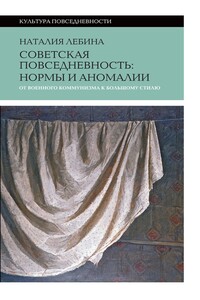Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. - 40-е гг. XX в. | страница 5
Даже в 60-е гг., во время второй после 20-х гг. «весны» советской социологии, Г. Л. Смирнов, впервые поставивший вопрос о возможности изучения типов антиобщественного поведения, уделил особое внимание их политическим характеристикам[3]. Абсолютизация этой стороны проблемы была, конечно же, неправомерной. Отклонение от нормы, аномальность, в данном случае оценивалось прежде всего с учетом политической конъюнктуры, продиктованной преимущественно классовым подходом. Подобная методика не позволяла понять и объяснить целый ряд явлений, которые были отражением не только социальных, но и психологических, а иногда и психических особенностей личности и общественной группы. Примерно до середины 80-х гг. советские обществоведы упорно избегали использования принятого в мировой социологической теории и практике понятия «девиантность». Ныне оно довольно широко употребляется российскими социологами, официально присоединившимися наконец к одному из ведущих направлений исследований Международной социологической ассоциации — теории и практике девиантного поведения и социального контроля[4]. Это, как представляется, позволяет рассмотреть и те формы повседневной жизни, которым необходимо давать не только социальную, но и психологическую оценку.
Все вышесказанное имеет самое непосредственное отношение к проституции — одной из наиболее устойчивых и традиционных форм отклоняющегося поведения. Ее история насчитывает не одно тысячелетие, хотя широко известное выражение «проституция — древнейшая профессия» не имеет под собой должной основы. Ведь трудовая специализация существовала — в отличие от торговли телом — еще до появления товарно-денежных отношений. Проституция же повсеместно считается порождением такого исторического этапа, когда эти отношения становятся определяющими у того или иного народа.
Ныне, учитывая современный уровень развития российского обществоведения, нет необходимости подробно излагать сюжеты, связанные с процессом становления института продажной любви в мире в целом. Читателю сегодня доступны не только работы отечественных социологов и юристов, в той или иной степени затрагивающие проблемы истории мировой проституции, но и репринты некоторых дореволюционных изданий. Следует лишь отметить, что, несмотря на глубокую древность, явление торговли любовью не имело и не имеет достаточно точного юридического определения ни у нас в стране, ни за ее пределами. Довольно часто к проституции относят безличные половые контакты, имевшие место у народов, особым образом толкующих понятие «гостеприимство». Кроме того, к числу продажных женщин древности причисляют жриц различных культов. Так, в процесс исполнения некоторых религиозных обрядов включалось совершение полового акта, что истолковывалось как жертвоприношение. В отдельных случаях за это взимались деньги, впоследствии употребляемые на нужды храмов. И все же эти явления, имеющие древнейшую историю, нельзя назвать проституцией в прямом смысле слова. Ее важнейший признак — продажность, вступление женщин в половые отношения за деньги, превращение ими своей привлекательности, и прежде всего своего тела, в некий товар, а данного занятия — в ремесло. Уровень развития товарно-денежных отношений в стране, таким образом, во многом влияет на размах торговли любовью.