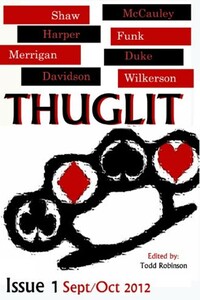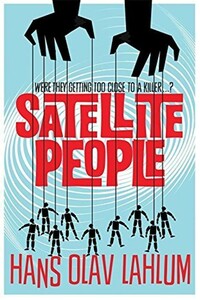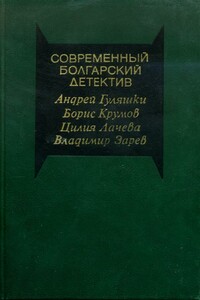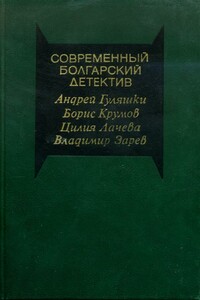Обреченная | страница 22
Детский жирок, который защитил меня от падения, медленно сходил, и в раннем детстве моя рука некоторое время представляла собой сухую, похожую на карандашик, палочку. Одно время у меня были только три действующих конечности, что тогда не казалось мне таким уж ужасным. Я научилась ходить раньше прочих, потому что мне нужны были ноги, чтобы добраться до тех мест, куда я не могла дотянуться рукой. Я рано научилась разговаривать, поскольку не могла показать на то, что мне хотелось. Я была, как Кевин Спейси, болтающийся между Болтуном и Кайзером[8]. Потом правая рука у меня выправилась – она развилась, как и левая, я могла держать ручку, писать мелом на доске, держать флейту и все такое. Когда появился на свет мой младший брат, моя рука выглядела так, словно мать никогда меня и не роняла. Не заведи она привычку постоянно напоминать мне об этом дне, причем каждый раз в такие моменты по моей руке словно ток проходил, я бы вообще об этом забыла.
Но этого было недостаточно для первой вылазки Олли.
– Чем больше мы будем разговаривать, тем лучше я вас узнаю, – взмолился он, когда я сказала, что на сегодня с меня хватит. – Тем больше я смогу найти людей, которые подпишут прошение о помиловании. Это поможет нам составить самое лучшее прошение о помиловании, какое только возможно. Поддержка Марлин очень важна, но если в вашем прошлом найдутся еще люди, которые смогут подписаться в пользу смягчения вашего приговора, тем лучше.
Как будто Фельдшер Номер Один прямо вот так и подпишет аффидевит в пользу сохранения моей жизни!
Я вела нормальную жизнь ребенка из среднего класса, жила с работающей матерью-одиночкой, стереотипным «хвостом» в виде младшего брата и постоянно меняющимися папочками, которые различались стилями усов. У одного были «червячки», как у Кларка Гейбла, у другого – жирные белесые подкрученные вверх, у третьего – черные в стиле Дали, и, увы, мне неудобно сообщать, что моя матушка спала с мужчиной, щеголявшим гитлеровскими усиками. Я знаю, что это экстравагантно, мягко говоря, но тогда я этого не понимала.
Мне, наверное, было лет семь, когда после инцидента с одним из усатиков мама потащила меня к логопеду, думая, что это поможет исправить мелкий дефект речи. Тогда она спала с мужчиной, у которого усы были как мохнатая гусеница, а еще он носил толстые очки в проволочной оправе. Мужчина этот работал бухгалтером в ресторане, где она обслуживала столики.
Я увидела его раз в нашем доме за завтраком. Он был в голубых «семейных» трусах в тонкую полоску и майке-алкоголичке, заляпанной горчицей на животе. Я помню ощущение, когда его глаза обшаривали меня с ног до головы, как сканер, медленно, и когда он закончил, у него за ушами прямо зажглась лампочка. Раз утром он пошутил над тем, как я просила кашку («Мам, дай повалуйста фвуктовый сивоп!»), и после этого меня стали таскать к логопеду два раза в неделю.