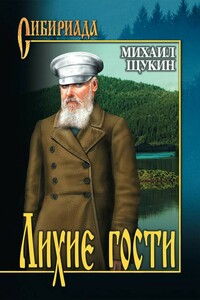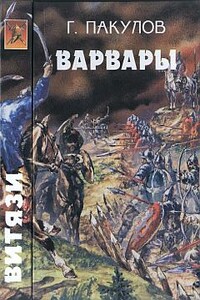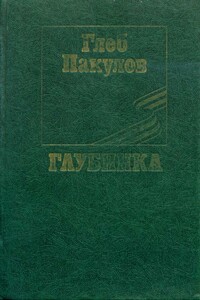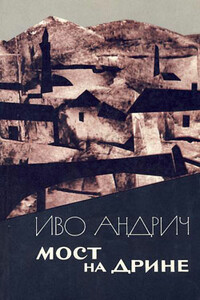Гарь | страница 8
Принесли и расставили яство. Большую серебряную братину с медовым взваром уместили в центре стола. Прочтя благодарственную молитву, Стефан благословил хлеб, малым черепцом бережно наполнил кубки. Холодный, с погребного льда, чуточку хмельной мёд пить было благостно. Поп Лазарь и тут повеселил: укатив под лоб озёрной сини озорные глаза, зачастил по-пономарьски:
— Не токмо пчёлки безгреховные взяток беру-у-т!..
Отдыхала братия — единомышленники, сомудренники. Дух любви и товарищества незримо восседал за их столом. И пусть были они разного возраста — от двадцати до пятидесяти, — связывало их ревностное радение за истинное благочестие Руси, крепкая служба древней вере отцов и дедов, готовность принять смерть за единую букву «аз» в православных божественных книгах.
Ласковая беседа текла как ручеёк тихожурчливый, и вся она, так ли, этак, касалась Никона. Пока он странствовал, умер дряхлый и малодеятельный патриарх Иосиф. Местоблюстителем Патриаршего Престола временно стал добрый пастырь — митрополит Ростовский Варлаам, старец восьмидесяти четырёх лет. По старости он совсем не вмешивался в дела, всё церковное устроение давно перешло в руки Стефана с братией. Имя нового патриарха не называлось, но кто им станет, не было тайной.
В сенях затопали, арочная расписанная цветами и травами дверь, тонко звякнув колокольцем, растворилась. Вошёл князь Иван Хованский, добрый друг тесного кружка братии, во всём свой человек. Щурясь после дневного света, он вполуслепую прошёл к столу, по пути угадывая сидящих, здоровался, приобнимал за плечи.
— Каково ездилось, княже? Садись, — лаская его серыми глазами, спросил Стефан. — Хошь бы грамотку с дороги наладил. Всё недосуг?
Князь припал к чаре и долго, до ломоты в зубах, тянул родникового холода питьё. Отставя чару, шумно выдохнул, проволок тылом ладони по густым усам, какое-то время мрачно глядел в стол, затем тяжело опустил на столешницу дюжий кулак. Свечи вздрогнули, стрельнули дымными язычками.
— А худо ездилось, отцы святые! — Князь поднялся, тёмными омутинами глаз из-под лохматых бровей оглядел сотрапезников. — Никон житья не давал. В монасей превратил нас, все дни и ночи в молитвах выстаивали, от земных поклонов поясница трещит, а от постов строгих темь в глазах и омороки. А мы люди ратные, к долгим бдениям неспособные, ну и ослабели всяко. Спроси у дружины — хужей смердов харчевал! Не токмо скудно давал, да ещё в тарели заглядывал — не едим ли много, не пьём ли чего не велено. А кого так и посошком потчевал за безделицу сущую. Совсем уморил. Раньше такого бесчестья князьям да боярским сынам не бывало, а ноне выдал нас государь митрополиту животами. Назад ехали, так со мной разговаривает, как через губу сплёвывает! — Хованский рванул себя за бороду. — А я — князь! Рюрикович!.. Уж прощайте меня, выкричался тут, дурной, как наябедничал, но всё, что поведал, — голая правда. Ещё скажу — от новин, что он замышляет, впору будет за Сибирью пропасть.