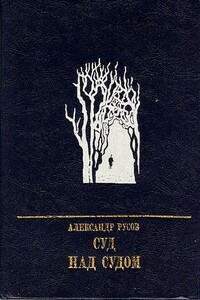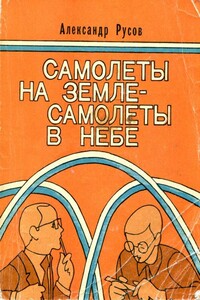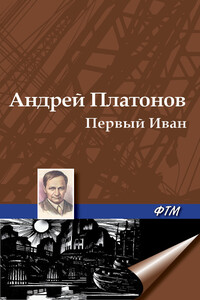В парализованном свете. 1979—1984 (Романы. Повесть) | страница 22
Нина Павловна, тощая, маленькая женщина с желчным лицом, представлявшая на заседании интересы технического отдела, заерзала на своем стуле и недобро взглянула на Бориса Сидоровича, всем своим видом давая понять, что вводная часть затянулась и пора переходить к существу вопроса. Поговаривали, что она приходится дальней родственницей покойному академику Скипетрову.
— Иные же переводчики, — отложил в сторону дрожащей рукой один из шуршащих листков доклада Борис Сидорович, — я имею в виду, разумеется, только тех, кто не прибегает к сознательным искажениям, а добросовестно пытается перенести читателя в обстановку других эпох… так вот, некоторые переводчики, к сожалению, сами перебираются туда с большим трудом. И потому под беретом, осененным перьями, мы нередко узнаем голову, причесанную в современной парикмахерской, иные романтические героини получают воспитание в нынешней школе с продленным днем, а государственные люди шестнадцатого столетия мыслят столь же неинтересно, как какие-нибудь современные обозреватели «Литературной газеты»…
Последние слова лингвиста вызвали заметное оживление. При этом кто-то вспомнил недавно опубликованную в районной газете заметку, посвященную Лунинской системе переводов, кто-то усмотрел двусмысленный намек в выражении «государственные люди», а докладчик уже углубился в анализ страданий писателей, уязвленных жалкими переводами. Целый его пассаж был посвящен Пушкину, впадавшему в бессильный гнев от упреков в неблагодарности по поводу исправлений и улучшений его текстов переводчиком, взявшим на себя труд «сократить длинноты и облагородить некоторые слишком уж обыкновенные украшения». Дальнейшее сводилось к отстаиванию необходимости использовать для новой машинной идеологии единственно правильный принцип перевода — «слово в слово».
Борис Сидорович прихлопнул ладонью последний лежавший перед ним листок и на вопрос председателя: «вы кончили?» — только упрямо тряхнул головой.
— Кто следующий? — обратился к собравшимся Владимир Васильевич.
Его взгляд, пробежав по лицам, точно луч прожектора, остановился на товарище Кирикиасе. Но тут донеслось совсем с другой стороны:
— Разрешите мне.
— Прошу внимания! Слово Андрею Аркадьевичу Сумму.
В отличие от апологета «дословного перевода» Бориса Сидоровича, Андрей Аркадьевич принадлежал к артистическому типу переводчиков-импровизаторов и потому начал свое выступление в полемическом тоне, противопоставив буквализму предшественника свободные правила свободных ассоциаций, которые, по его утверждению, только и могли сообщить гибкость машинной идеологии в современных условиях