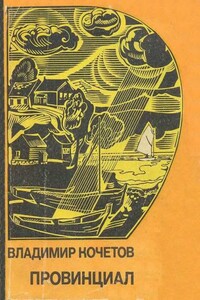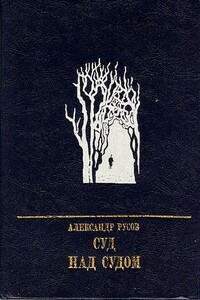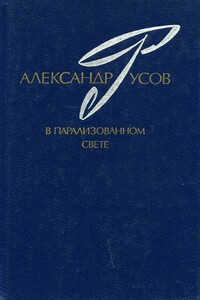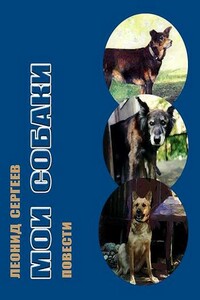Самолеты на земле — самолеты в небе (Повести и рассказы) | страница 54
Что ждал я от новоявленного гения: благодарности, верности? Ожидал найти в нем воплощение, некий итог моих трудов, усилий, надежд? Хотел обрести как бы более удачливого, чем я сам, сына, чтобы втайне гордиться его будущей славой? В его годы мне даже не снились такие успехи, и я хотел лишь видеть, как загорятся его глаза, как мы вместе поскачем вперед.
Но он по-прежнему был спокоен, выдержан, тих. Будто предшествующие поколения людей растратили весь свой пыл в боях, трудах, безумствах, ничего ему не оставив. Я так мало узнал о нем за два года совместной работы. У него были молодые сорокалетние родители, и я решил спросить о них, рассчитывая, что, может быть, эта тема способна высечь искру огня. Он не был скрытен. Казалось, ему нечего скрывать, но и рассказывать о себе нечего. Пожалуй, родители не слишком интересовали его: это было видно по лицу, безлично-равнодушному разговору. Словно он и не родился вовсе, не произошел, но как отмершая чешуйка коры отслоился от них.
Мне казалось: бледная звезда прилетела к нам из иной галактики, где иначе мыслят, иначе живут и чувствуют. Попроси любого из нашего поколения вспомнить детство с его печным отоплением, игрой в казаки-разбойники, гибелью отцов на войне и приходом с войны веселого человека в кожаной куртке с орденом Красной Звезды на груди. Чего не вспомним, не наплетем!
В последние годы я все чаще встречал студентов с такими же спокойными, чуть флегматичными лицами, будто отрезанными от наших напряженных, озабоченных лиц хлеборезкой — основным орудием булочных времен карточной системы.
Может, война сделала нас такими? Война и то, что было после нее? Может, наше нервное, рвущееся, словно убегающее от последних пуль поколение просто ошалело от горя и радости, от того, что осталось жить? Может, именно заложенная в нас защитительная пружина избыточного действия, порожденный опасностью инстинкт самосохранения заставляли, да и теперь заставляют, жать на всю железку?
— Хочу ходатайствовать перед кафедрой, — сказал я как-то Новосельцеву, — чтобы вас оставили в аспирантуре.
Долго я берег для него этот подарок, хорошо помня тот весенний день 1959 года, когда примерно теми же словами мне объявили о том же. Что-то бешеное, радостное, сумасшедшее вырывалось тогда из груди, подкатывало к горлу.
Ничто не переменилось в лице Новосельцева. Он даже не отнял рук от штатива, на котором укреплял прибор.
— Спасибо, я подумаю.
И уже по инерции, почти не слыша последней фразы, как человек, у которого взрывом оторвало ногу, но который не осознал еще, что произошло, я продолжил: