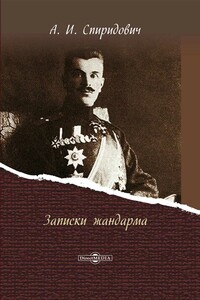Далее... | страница 74
— Как тебе нравится твоя тетя Зисл? С твоей тетей Зисл я спал.
Я почувствовал дрожь в коленях.
— Как это?
— Вот так, спал.
Я вытаращил на него глаза и тут же опустил их: меня аж передернуло. Я помолчал минутку, потом посмотрел на Шэпсла снизу вверх и сверху вниз и все же спросил:
— Как же это? А она хотела?
— Ну а как ты думаешь? Она не хотела?
Шэпсл положил мне на плечо широкую ладонь и сказал, что в селе есть вдовушки, каких я и во сне не видел. Если мне хочется, можно вечерком к ним пойти. Я ответил Шэпслу, что вечером поглядим, и увернулся от этих разговоров. А потом один лежал в траве за домом дяди Меера и продолжал читать книжку, которую начал до того. Но все эти разговоры Шэпсла лезли мне все же в голову. Любовь в книжке тоже где-то, наверно, помогала. Как бы то ни было — сознаюсь в грехе. Книжку, помню, я отложил в сторону, вытянулся на земле во всю свою длину, кругом не было ни живой души, я отложил в сторону все свои горести и все горести мира, закрыл глаза и делал, извините, то, что делают мальчики, когда они только начинают становиться мужчинами, — с закрытыми глазами спал с кем мне только хотелось…
Я лежал в траве дальше, уже с открытыми глазами. Глядел на небо, на солнце где-то за лесочком, на белые облачка вокруг солнца, которые вот появились, вот снова исчезли, и мне было очень жалко дядю Меера, жалко Шэпсла, и чуточку жалко и себя самого…
Кто же это Бейнеш Мильштейн, второй рашковец, который, кроме дяди Меера, жил в Шептебани?
Он был щупленький, близорукий, носил напяленные на нос очки с очень толстыми стеклами, к тому же имел большую лысину и к тому же, как некая компенсация за то, что спереди голова голая, отпустил себе сзади, как поп, длинные, до плеч, волосы, ставшие раньше времени седыми при его сорока или, может, таки только тридцати пяти годах.
Детей шептебаньских деревенских евреев он учил читать и писать. В эти три дня, ради меня, он каждый вечер заявлялся к дяде Мееру, усаживался в углу на табуретке, втягивал голову в свои узкие плечи, и никто, кажется, в мире не мог так долго, как он, сидеть на табуретке и молчать. Сидеть и сидеть, молчать и молчать. Дядя Меер и называл его реб Бейнеш и дразнил его, как цуцика:
— Реб Бейнеш, ваши ученики сдают уже скоро бакалавриат или они еще из азбуки не вылезли? Кадиш сказать через сто двадцать лет вы их хоть сможете научить?
Бейнеш не отвечал. Он только фыркал губами, как коза над ведром, и его невообразимо толстые стекла очков только посверкивали на дядю Меера.