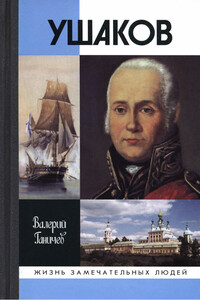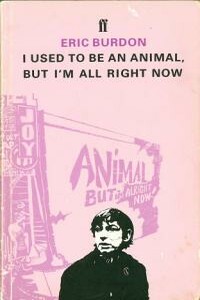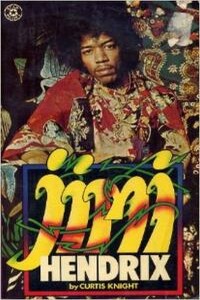Далее... | страница 23
С таким видом, с такой одеждой и с таким счастьем Шапсэ мог бы быть на порогах рашковских домов первым среди первых. Но опять то же самое: писательский гонор, гордая нищета — попрошайничать не попрошайничают, даром свой кусок хлеба не едят.
Такой вот, хромой, кривой и несчастный, он трудился больше, чем многие благополучные евреи в Рашкове. Он запряг в узду сверхъестественную память свою — тоже, наверно, наследственную. Он стал своего рода живой рашковской летописью. Памятью всего местечка. Вот стучится он наверху, на горе, в дверь: у вас завтра поминальный день по бабушке Песе, царство ей небесное; или где-то внизу улицы: по дяде Боруху; или по крошке Янкеле, который покинул мир, бедняжка, на другой день после обрезания. С рукавами длинней, чем руки, он хромает по кладбищу между могилами, показывает тот бугорок, где много лет назад похоронили крошку. Отыскивает старый стершийся памятник, никто уже не знает, кто под ним лежит, вваливается вечером домой, к Эстер, промерзший и посиневший, с несколькими черствыми бубликами и парой грошей в кармане, праведно заработанными и честно заслуженными. Рашковец, известно, немножко завистник: никто никогда не сказал, что с такой редкостной памятью, как у Шапсэ, другой человек, в другие времена, пошел бы очень-очень далеко. Рашковец, однако, любит тонкую издевку: вот Шапсэ, сказали, будь он поумнее, мог бы с такой отточенной памятью стать богачом. Не может он разве говорить об одном и том же поминовении четыре раза в год?..
Так и блуждали между узкими рашковскими улочками внуки прадеда-писателя. Я, бывало, думал, что Шапсэ и тетя Годл с ее дочкой Шейндл, которые должны, значит, возиться вокруг мертвых и умерших, обслуживать старый, мертвый мир, сами ходят как живые покойники, ходят над бездной, между жизнью и смертью, между бытием и небытием.
Я мучил их и мучился сам, на них глядя. Записать мне их тоже в список обманутых и обиженных, униженных и оскорбленных? Как? Чем? Кто захочет взять их с собой? Пусть живые покойники тихо отойдут в свой покой, исчезнут.
Теперь, после Черновиц, в те несколько недель дома между пасхой и швуэс, после того как я отсидел пару месяцев в тюрьме и после того как повзрослел там на пару лет, я стал вдруг думать, что они, несчастные и бедные родные мои, тоже идут в счет. Я шел на муки и страдания и пойду и дальше на муки и страдания, чтобы и они, эти несчастные гордые бедняки, тоже числились в этом мире.