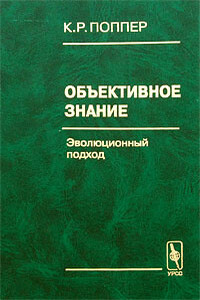Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография | страница 68
Мне было ясно, что эти люди ищут критерий, разделяющий не столько науку и псевдонауку, сколько науку и метафизику. Кроме того, мне было ясно, что мой старый критерий демаркации лучше, чем их. Во-первых, потому что они пытались найти критерий, который делал бы метафизику бессмысленной чепухой, полной тарабарщиной. Но любой такой критерий чреват неприятностями, так как метафизические проблемы часто бывают провозвестниками научных. Во-вторых, демаркация осмысленного и бессмысленного просто сдвигает проблему. Как было признано и самими членами Венского кружка, она создает потребность в другом критерии, который различал бы смысл и отсутствие смысла. Для этого они ввели верифицируемость, которая рассматривалась ими как доказуемость посредством утверждений наблюдения. Но это всего лишь еще один способ формулировки почтенного критерия индуктивности; настоящей разницы между идеями индукции и верификации нет. Но согласно моей теории, наука не индуктивна; индукция — это миф, развенчанный Юмом. (Другим, но менее интересным пунктом, признанным позднее Айером, была полная абсурдность использования верифицируемости в качестве критерия смысла: как вообще можно говорить, что теория является тарабарщиной, потому что она не поддается верификации? Разве не нужно сначала понять теорию, чтобы решить, верифицируема она или нет? А понятая теория разве может быть тарабарщиной?) По всему этому я чувствовал, что на любой из их основных вопросов у меня есть лучшие — более последовательные — ответы, чем у них.
Возможно, главное состояло в том, что они были позитивистами, а стало быть, эпистемологическими идеалистами в духе Беркли и Маха. Конечно, они не считали себя идеалистами. Они называли себя «нейтральными монистами». Но это было просто еще одним названием идеализма, и в книгах Карнапа[109] идеализм (или, как он называл его, методологический солипсизм) достаточно открыто рассматривается как одна из рабочих гипотез.
Я много писал (не публикуясь) на эти темы, очень подробно прорабатывая книги Витгенштейна и Карнапа. С той точки зрения, на которую я встал, все это оказалось достаточно прямолинейным. Я знал только одного человека, которому мог бы объяснить эти идеи, и это был Генрих Гомперц. В связи с одним из моих главных пунктов — что научные теории всегда остаются гипотезами или предположениями — он порекомендовал мне книгу Алексиуса фон Мейнонга «О предпосылках»