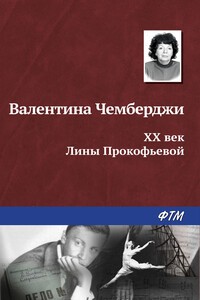О Рихтере его словами | страница 71
Но у Дебюсси совсем другое: та далекая эпоха, та атмосфера, воздух древности… «Дельфийских танцовщиц» люблю больше всех прелюдий. Еще «Терраса, освещенная лунным светом». Прелюдии красивые, но есть у Дебюсси сочинения еще лучше.
– А «Детский уголок» вам нравится?
– Gradus ad Parnassum[47] – самое лучшее. Ребенка в конце концов довели, и он плачет.
Дебюсси можно поставить в ряд с… нет аналогии… Самый близкий – Моне, который хотел того же самого, но все же он несравним с Дебюсси… Приближается к нему лишь в таких картинах, как «Бульвар капуцинов», «Стог сена». Ренуар – тоже только иногда. Что меня удивляет в Ренуаре и Моне – почему такие взлеты и в то же время иногда такие неудачные картины? У Моне – какие-то громадные кувшинки, совсем не нравится! У Ренуара женщины цвета сырого мяса – терпеть не могу! Вероятно, потому что экспериментировали. А Дебюсси – само совершенство.
Собрать всех древних… и, может быть, получится Дебюсси.
Вагнер, Шопен, Дебюсси ушли куда-то дальше всех остальных. Если в обычной жизненной цепи сначала – природа, а потом художник, то они, пройдя эту цепь, снова вернулись к природе уже на более высоком и даже недоступном для других уровне.
Вагнер, Дебюсси и Шопен победили форму.
У Шопена все утонченное, но идет от сердца…
«Пеллеаса и Мелисанду» надо исполнять гениально и подлинно, по Дебюсси, иначе – полная профанация. Это статичная опера, поэтому каждый такт должен быть пронизан настроением. В то же время она очень длинная. Такие же масштабы, как «Парсифаль», хотя тот более динамичен.
Я разговаривал с N. Он дирижировал «Пеллеасом» честно и верно. И при всей честности и верности ничего не вышло. И он сказал такую чушь: «Ну это же все невозможно: совершенно ясно, что Пеллеас и Мелисанда глупы». Я ему не могу этого простить. Это же поэзия!
Еще один композитор – Мусоргский. Есть у него такой маленький шедевр: «По-над Доном сад цветет» – настоящее чудо. Почему? Неизвестно… А наверное, все очень просто: все эти композиторы писали, несмотря на всю их профессиональность, одним вдохновением. А другие – нет; даже Бетховен, Шуман, Шуберт – не всегда. А эти – как самолет, отрываются от земли и летят.
«Лесной царь» у Гете и у Шуберта – тоже на одном вдохновении. У Шумана бывает все на порыве. В «Симфонических этюдах» первая тема гениальная. Какая глубина! Притом я никогда не поверю, что это не его тема, что она будто бы принадлежит какому-то любителю! Не может быть.