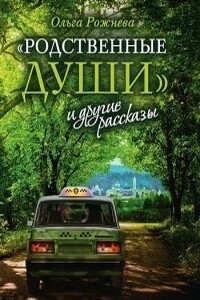Лальские тайны и другие удивительные истории | страница 52
Врачи приговорили к смерти, а он продолжал служить и молиться – и полностью выздоровел.
Вот такое кладбище – город в городе…
Кроме кладбища рядом с Лальском, оказывается, множество братских могил… Здесь был отдел Пинюглага. Заключенные – верующие, бывшие дворяне, крепкие крестьяне, прозванные кулаками, священники и даже архиереи – строили здесь в тридцатые годы железную дорогу на Сыктывкар – извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. Трудов человеческих не жалели, да и заключенных за людей не считали. Строили ту дорогу, строили, сорок пять километров построили – да и бросили. Так и пропали труды даром. Вот такая дорога… А по бокам-то все косточки русские…
Этот рассказ про Пинюглаг и дорогу на костях человеческих мне, как комсомолке, было совсем уж дико слышать. Но я отцу дьякону верю. Общаясь с ним и с тетей Валечкой, я за месяц узнала больше, чем за несколько лет… Словно повязка была на глазах – и сняли. А глазам смотреть больно – не привыкли они к такому яркому свету…
24 августа. Отец Иоанн принес нам с тетей Валечкой книгу того самого протоиерея Алексея Попова, чью могилу вчера видели мы на лальском кладбище. Называется книга «Воспоминания причетнического сына», год издания 1913. Как у отца Иоанна только и сохранилась такая литература?! Спросила – говорит: отец любитель был, собрал роскошную библиотеку. Только отец Иоанн эту библиотеку много лет в амбаре прячет…
Книга потрясающая! Читала тете Валечке вслух: она, как и я, любит слушать про старую жизнь… Перепишу себе несколько отрывков, потом почитаю своим ученикам о народном быте:
«До сих пор я хорошо помню тот невыносимо жаркий летний день, во время сенокоса, когда и без работы человек задыхался от зноя, распрелая трава острию косы не уступала, матушка изнемогала, я обессилел, а батюшка косил и очень гневался, что ни мать, ни сын косить не могут (мне было тогда лет девять, а матушке – двадцать девять). Как ни боялся я родительского гнева, обнаружения которого могли быть печальными для меня и для матери, но, несмотря на это, я положил косу, ушел в траве за куст и горько заплакал, заплакал сознательно не столько о своем бессилии физическом, сколько о той несчастной доле духовенства, а особенно доле причетнической, в какой тогдашнее духовенство находилось…
Когда я был так юн, что не годился ни на какую работу, тогда мне, как старшему между детьми семьи, поручалось нянчиться с ними, заведовать домом во время отлучки родителей на работу в поле или на сенокос, и в то же время приготовлять уроки по чтению. Пища, состоящая из хлеба и соли, оставлялась мне на столе, под покровом скатерти. И сидишь, бывало, целый летний красный день в грязной и душной избе со своими питомцами, одного из них качая в люльке и кормя молоком из рожка, а за другим, еще нетвердо ходящим по полу, следя глазами, чтобы он гулял благополучно.