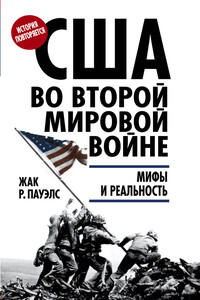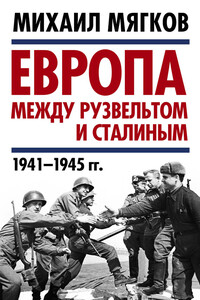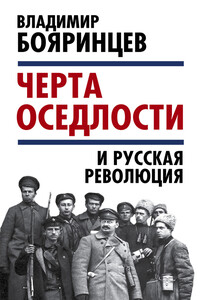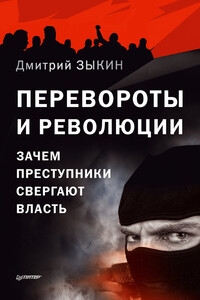Большая игра. Британия и США против России | страница 8
А вот как смотрел на Кавказ другой представитель России, Гудович: «успокоить и привести в повиновение» горские племена легче всего было мерами «кротости и гуманности, нежели оружием, которым, хотя они поражены и будут, но, имея верное убежище, уйдут в горы, будут всегда питать непримиримое мщение, им сродное, за поражение, а особливо за нанесенный вред их имению»[7].
Идеи Гудовича воплощались на практике. Так, например, чеченцам предоставили право беспошлинной торговли в российских крепостях, для их старшин выделялись крупные суммы денег, и, кроме того, предоставлялась определенная независимость пенитенциарной системе Чечни. На практике это означало, что непосредственно наказывали чеченцев за проступки не российские власти, а чеченские старшины. Деньги горцам раздавал и Ртищев.
Да и сам Александр I время от времени давал установку кавказским наместникам вести дела с горцами мягко:
«Неоднократные опыты соделали неоспоримым, что не убийством жителей и разорением их жилищ возможно водворить спокойствие на Линии Кавказской, но ласковым и дружелюбным обхождением с горскими народами, чуждыми столько же всякого просвещения, как и религии. Черкесы, сопредельные черноморцам, и киргизы, окружающие сибирскую линию, служат и теперь примером, сколь много имеет влияния на народы сии доброе соседство русских и расположение пограничного начальства к мирной жизни»[8].
Решительный Цицианов и осторожные, склонные к переговорам Гудович с Ртищевым – полюса кавказской политики России, между которыми находились другие крупные военачальники, служившие на Кавказе: например, Тормасов и Глазенап.
Ермолова можно назвать продолжателем дела Цицианова. Он презирал и Гудовича, называя того «глупейшей скотиной», и его методы. Ермолов действовал круто и начал с Чечни. Он вытеснил горцев за Сунжу, в 1818 году построил крепость «Грозная» и поставил цепь укреплений от нее до Владикавказа. Эта линия обезопасила район среднего Терека. Нижний Терек Ермолов прикрыл еще одной крепостью «Внезапная». Проблему лесных массивов, так называемую «зеленку», известную нам по войнам на Кавказе 1990-х годов, Ермолов взялся решать в свойственном ему радикальном духе: деревья систематически вырубались. От аула к аулу шли просеки, и теперь русские войска могли в случае надобности заходить в самое сердце Чечни.
Видя такое дело, дагестанцы смекнули, что Ермолов доберется и до них. Поэтому, не дожидаясь появления в своих краях войск грозного генерала, в 1818 году Дагестан поднялся против России. Ермолов ответил решительным наступлением на Мехтулинское ханство и быстро уничтожил его самостоятельность. На следующий год соратник Ермолова генерал Мадатов покорил Табасарань и Каракайдаг. Затем было побеждено Казикумыкское ханство, и Дагестан умиротворился на некоторое время. Аналогичную систему мер Ермолов применил и в Кабарде, оставался нерешенным вопрос с черкесскими (адыгейскими) набегами, но здесь Ермолов не мог ничего поделать, потому что номинально Черкесия находилась в юрисдикции Османской империи, а по сути являлась территорией, управляемой своими законами.