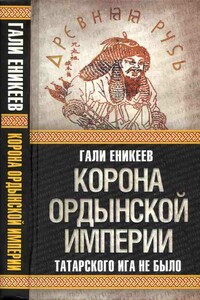Варяги и Русь | страница 49
Были ли русские князья до варягов членами одного рода, как у оботритов и лутичей в VIII–XII веках, как Премыслиды у чехов, как впоследствии у нас Рюриковичи? При начале вероятно; эпоха призвания застает княжеские роды уже в полном расстройстве. Несомненно кажется деление Руси на два родовых княжеских центра (так было и у вендских славян), соответствующих ее древнейшему племенному делению на словен и на собственную южную русь. Вследствие не дошедших до нас и, вероятно, до самого Нестора исторических переворотов, каждое из южных племен является у него уже отдельным княжением; мы видим то же самое и на Руси XIII столетия; Русь разделяется на несколько независимых княжеств, из которых каждое имеет своего великого князя и своих удельных князей. Северный центр обозначен яснее по волостям. Я повторяю, с надлежащими по моему мнению объяснениями, слова летописца: «И по сихъ братья держати почаша родъ ихъ княженье въ поляхъ; въ деревляхъ свое, а дреговичи свое, а соловени свое въ Новегороде, а другое (т. е. словене держали другое княжение) на Полоте, иже полочане. От них же (т. е. от словен же имели свое княжение) кривичи, иже седять на верхъ Волги, и наверхъ Двины, и наверхъ Днепра, ихъ же градъ есть Смоленскъ; туда бо седять кривичи, таже северъ отъ нихъ».
Этих слов нельзя, кажется, понять иначе ни в грамматическом, ни в историческом смысле. Шлецер переводит неправильно и произвольно. Он говорит: «Также дреговичи, словене новгородские и полочане, сидящие на Полоте, имели каждый свое особое княжение». Слова «и другое на Полоте» относятся очевидно к словенам; одно княжение в Новгороде, другое в земле полочан, вот смысл Несторовых слов. Иначе ему следовало бы сказать: «А полочане свое на Полоте».
Далее у Шлецера «отъ сихъ (в сторону?) сидятъ кривичи на Двине» и пр. У Нестора сказано «отъ нихъ же кривичи иже седять». По какому праву выпускает Шлецер слово иже? Между тем, все значение Несторовой мысли заключается в этом слове. От словен же, говорит он, имели свое княжение и остальные кривичи, те, что сидят наверх Волги и пр., т. е. кривичи смоленские. Кривичи у Нестора делятся на полоцких («а первии насельници въ Новъгороде словене, Полотьски кривичи» и пр.) и смоленских. Кривичи полоцкие — те же словене как по происхождению, так по языку и по имени; они стоят в летописи под именем полочан в числе племен, говорящих особым словенским наречием; смоленские, вероятно, смешанные с литвой или ляшскими племенами, не упоминаются в исчислении шести словенских племен; новое доказательство в пользу вышеприведенного мнения Касторского, что имя кривичей не этнографическое, а служило отличием тех племен на Руси, которые в религиозном отношении признавали власть ромовского жреца Криве-Кривейто. Полоцкие кривичи (вернее, полочане) единоплеменники словен новгородцев, участвуют в призвании варяжских князей; Трувор садится в их старшем городе Изборске «а то ныне пригородокъ псковский, а тогда былъ въ кривичехъ больший городъ». Мы не имеем ни малейшего повода принимать ни старейшинство Полоцка перед Изборском, ни завоевания Синеусом мери и муромы; Трувором Полоцка. Это мнение основано единственно на опущении в летописи мери и муромы в числе призывавших племен; Полоцка в числе городов Рюрика, Синеуса и Трувора в первую минуту призвания. Но если придерживаться буквально слов летописца в тех местах, где он ясно выражается в общем смысле, каким образом объяснить его молчание об Изборске в числе городов, перешедших к Рюрику после Трувора? Все эти города, иные как чисто словенские, таковы Изборск, Псков, Полоцк; другие как словенские поселения в финских землях: Белоозеро, Ростов, Муром, входят в состав северных волостей и по смерти двух братьев поступают в единую власть старшего, Рюрика. «По дву же лету Сунеусъ умре, и брать его Труворъ, и прия власть Рюрикъ; и раздая мужемъ своимъ грады, овому Полотескъ; овому Ростовъ, другому Белоозеро». О смоленских кривичах мы знаем наверное, что они не участвовали в призвании, и Рюрик не сажает у них своих мужей; что, между тем, их земля была действительно уделом новгородского княжения, видно не только из слов летописи «отъ нихъ же кривичи, иже седять наверхъ Волги» и пр., но также из действий Олега и предания Несторова: «Поиде Олегъ… и приде къ Смоленьску съ кривичи (разумеется полоцкими) и