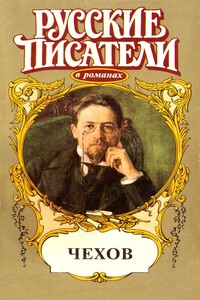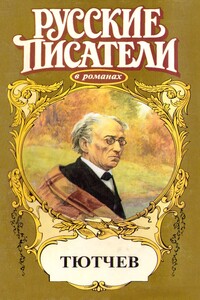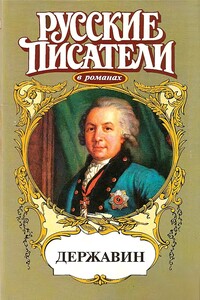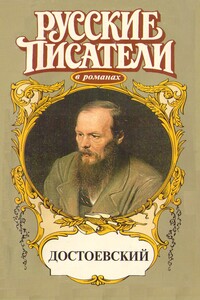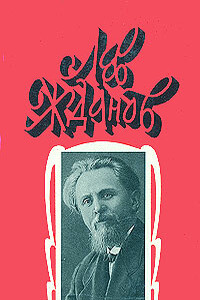Дуэль четырех. Грибоедов | страница 55
— Давно бы пора.
Каверин вспыхнул, слишком громко сказал:
— Оно в любом возрасте хорошо, коли от самого сердца идёт. А ты вот послушай, как удачно открылось: «Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодоносные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбища для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли. И не только на поверхности земли, но и во мраке её недр скрывается много полезных вещей, которые созданы на потребу человеку, и только люди их открывают». Стало быть, пусть себе открывают, когда в другое время не удосужились или не успели открыть. Я к ним иной раз забегаю для отдыха. Только жаль, что между ними в большом ходу Бенжамен Констан[32]. Мне всякий раз вспоминается прошлое. Славное времечко было! Отчего ты тогда остался в Москве? Тебе надо было со мной махнуть в Гёттинген. Что ни толкуй, по части философической германская нация выходит посерьёзней ветреных галлов. Куда твоему Вольтеру[33] до них, уж ты на меня не сердись.
Он уже успокаивался и ничуть не сердился:
— Полно, мой милый, немца Гёте[34] давно принял я в число тех, кого всем сердцем люблю и даже поставляю выше Вольтера.
Каверин тем временем отвернулся, сунул трактат Цицерона на прежнее место, с интересом зашарил глазами по корешкам, негромко сказал: «Вот он, ага!» — выхватил книжечку и обернулся к нему:
— Ну что, брат, давай наугад?
Развернул, где попалось, громко прочёл:
Каково?
Он тоже сказал, содрогаясь в душе:
Каверин изумился без шутовства, держа перед собой раскрытую книгу:
— Ого! Такого я от тебя ещё не слыхал!
У него едва не сорвалось с языка, что Каверин много чего от него не слыхал, но удержался, может быть, по застенчивости или из гордости, этого он решить не успел и с живостью продолжал, торопясь перевести внимание от смысла стихов, нечаянно выдававших его состояние, на другое: