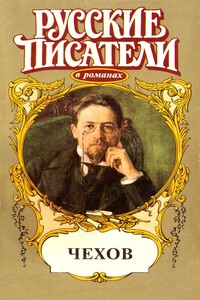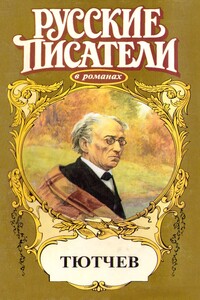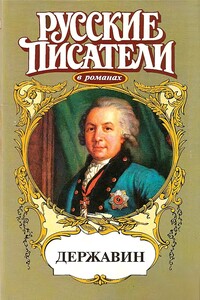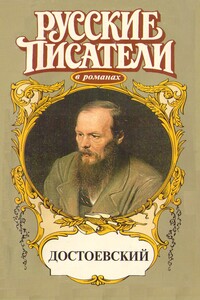Дуэль четырех. Грибоедов | страница 40
И на этих исписанных криво и мелко листках открывалась уму явная глупость и чушь. Он дивился, как имел легкомыслие занимать те счастливые беззаботные дни подобными стыдными вздорами. Теперь же, когда он был кругом виноват, представлялось просто-напросто неумной нелепостью слово за словом выправлять корявый чужой перевод «Мизантропа». Чужая комедия, чужие слова.
Ион вновь со злостью подумал о том, что вечно рядом идущая смерть в любой миг могла оборвать это невинное, чуть ли не детское препровождение времени, и остались бы от него одни эти смешные листочки, как от весёлого Васьки остались одни умоляющие, перепуганные глаза.
Очень высокий, оттого, может быть, что стоял у самой стены, следя неотступно за ним, улыбаясь осторожной доброй улыбкой, Ион наконец негромко спросил, так же внезапно оставивши тон наставлений:
— Ну, как вы это нашли, Александр?
Он вздрогнул, взметнулся, резко передвинулся в кресле, с недоумением вгляделся в долговязого немца и тоже негромко спросил:
— Ты об чём?
Скрестив длинные руки, стиснув пальцами узкие костистые плечи, Ион без малейшей иронии изъяснил:
— Ну, вот это, над чем вы размышляли, то есть готова ли русская мысль выражаться по-русски?
Вместо ответа он порывисто смял мерзкое кропанье в комок и с отвращением швырнул в кем-то, этого он не приметил, растопленный и уже угасавший камин.
Листки его рукописи так и упали, белым бесформенным комом, на присыпанную свежим пеплом золу, и зола взметнулась под лёгкой тяжестью их снопом мелких смеющихся искр.
Всплеснувши руками, Ион отскочил от стены:
— Остановитесь! Александр! Зачем вы? Боже мой!
Склонив голову, отворотясь, с неподвижным потемневшим лицом, испытывая отвращенье к себе, непримиримый судья, Александр отрезал резко и зло:
— Не мне судить бедную русскую мысль.
Длинный Ион стремительно пал на колени, громко стукнувши об пол, угловато сложился, как циркуль, выхватил из пасти камина и принялся расправлять перепачканные, смятые, уже зачерневшие по краям листки неоконченной рукописи, как ещё не разрыдался, бедняга, впрочем, жалко его, и перед ним виноват.
Кто же он? На что предназначен судьбой? Когда, в какой миг себя потерял? Или всё ещё не нашёл, оттого что никогда не искал? Хорошо, если бы так. Однако же выходило кругом, что ничтожество он, что обречён прозябать с двенадцатым классом и двумя паршивыми водевилями в тощем портфеле, которые с французского перетащил на русский язык, того ради, скорое всего, чтобы что-то доказать чудаку Шаховскому.