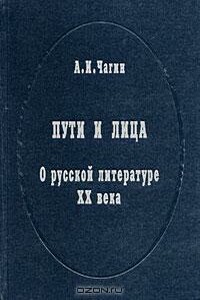«Дар особенный»: художественный перевод в истории русской культуры | страница 35
Переводческое кредо О.Г. Савича, по словам В. Огнева, – «точность. Он исходит из той простой истины, что читатель хочет знать переводимого поэта, и он, переводчик, “умирает в поэте”, которого счел нужным представить читающей публике…»[137]. В переводе Савича, например, невозможно было такое грубое искажение смысла оригинала, какое имеется в самых последних строках «Стансов» в переводе Эренбурга:
(Он вернул душу тому, кто ему ее дал / (Кто взял бы ее в рай, / В его блаженство), / И, хотя его жизнь закончена, / Он оставил нам достаточным утешением / Воспоминание.)
Не говоря уже о том, что подвергается сомнению праведность жизни дона Родриго («если она достойна»), для доказательства которой и были, собственно говоря, написаны «Строфы», Эренбургу, видимо, показалось неубедительным введение мотива бессмертия в потомках, в доброй славе[138], и он его «снял», несмотря на то что этот мотив, по всей вероятности, казался убедительным автору. Эренбург, таким образом, действовал в соответствии с принципом, согласно которому, по словам М.А. Волошина, «при переводе следует скрадывать недостатки и шероховатости оригинала, буде такие обнаружатся»[139]. Примером того, как Эренбургу удается создание равнозначного эмоционального воздействия на читателя, которое прежде всего и входило в его планы, может служить перевод строфы XXVI:
(Какой друг для своих друзей! / Какой господин для своих слуг / И родственников! / Какой враг для врагов! / Какой образец для подражания мужественным / И смелым! / Какое благоразумие для скромных! / Какая приветливость для веселых! / Какой ум! / Сколь бодр он с подчиненными. / А для жестоких и вредных – / Лев!)
Савич не сохранил единый зачин восклицательных предложений, в котором заключается сильнейшее оружие эмоционального воздействия. Эренбург счел необходимым это сделать даже ценой известных смысловых потерь, ценой невнятности некоторых из характеристик. Ограниченные рамки статьи не дают нам возможности привести другие примеры, однако, на наш взгляд, два приведенных дают некоторое представление о том, что эти переводы очень удачно дополняют друг друга.