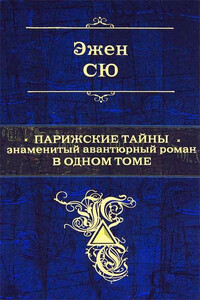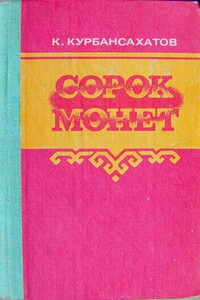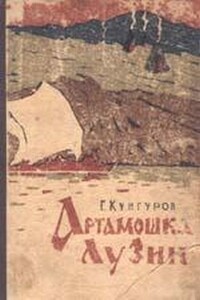Реквием последней любви. Миниатюры | страница 138
И оглушающим набатом грянуло вдруг: слава!!!
Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижане уже не могли ни о чем говорить — только об Иде, все об Иде. В один день она стала знаменитостью века. Куца ни глянешь — везде Ида, Ида, Ида… Она смотрела с реклам и афиш, с коробок конфет, с газетных полос — вся обворожительная, непостижимая. «Овал лица как бы начертанный образ без единой помарки счастливым росчерком чьего-то легкого пера; благородная кость носа! И лицо матовое, без румянца, с копною черных кудрей позади. Современная фигура, а лицо — некоей древней эпохи…»
Конечно, натура для живописца наивыгоднейшая!
Серов увидел ее в «Клеопатре» (поставленной по поэме А. С. Пушкина «Египетские ночи»). На затемненной сцене сначала появились музыканты с древними инструментами. За ними рабы несли закрытый паланкин. Музыка стихла… И вдруг над сценою толчками, словно пульсируя, стала вырастать мумия. Серов похолодел — это была царица Египта, мертвенно-неподвижная, на резных котурнах. Рабы, словно шмели, кружились вокруг Клеопатры, медленно — моток за мотком — освобождая ее тело от покровов. Упал последний, и вот она идет к ложу любви. Сгиб в колене. Пауза. И распрямление ноги, поразительно длинной!
— Что-то небывалое, — говорил Серов друзьям. — Уже не фальшивый, сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Ассирия, чудом воскрешенные этой женщиной. Монументальность в каждом ее движении, да ведь это, — восхищался Серов, — оживший архаический барельеф!
Художник верно подметил барельефность: Фокин выработал в танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид. Серов был очарован: все его прежние опыты создания в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели выпуклую зримость.
— Увидеть Иду Рубинштейн — это этап в жизни, ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще лицо человека… Вот кого бы я охотно писал!
Охотно — значит, по призыву сердца, без оплаты труда.
— А за чем же тогда дело стало? — спросил художник Л. Бакст.
Серов признался другу, что боится ненужной сенсации.
— Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать мне? А если — да, то у меня к ней одно необходимое условие…
— Какое же?
— Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские патрицианки позировали Тициану.
— Спросим у нее. — оживился Бакст. — Сейчас же!
Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие позировать Серову обнаженной. Жребий брошен — первая встреча в пустынной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро наполнялся светом. Пространство обширно. О том, что Серов будет писать Иду, знали только близкие друзья. Для остальных — это тайна.