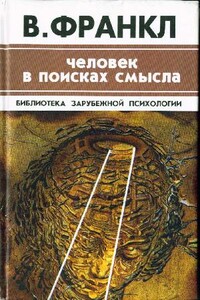Логотерапия и экзистенциальный анализ: Статьи и лекции | страница 71
Человеком не всегда движет только «Оно» – человек может быть движим и «сверх-Я», но в этом случае он остается движимым и не может принимать решения, особенно нравственные. Человек, принимающий нравственные решения, делает это не для того, чтобы угодить своему «сверх-Я», исполняющему функции совести.
В отличие от сексуального влечения, морального влечения не существует; ведь моя нравственная совесть – это не то, что меня влечет, а то, перед чем я отвечаю за свои решения.
Наконец, перед нами встает вопрос, может ли человек действительно быть ответственным перед чем-то, или ответственным можно быть только перед кем-то.
– Тот, перед кем человек несет ответственность
Для объяснения свободного бытия человека достаточно рассмотреть экзистенциальность. Для объяснения же ответственности человека следует обратиться к трансцендентальной природе совести.
Инстанцией, перед которой мы несем ответственность, является совесть. Если мой диалог с совестью – это настоящий диалог, то есть нечто большее, чем разговор с самим собой, перед нами встает следующий вопрос: наша совесть – это последняя инстанция или все-таки предпоследняя? Это «перед чем» по настоящему открывается только в процессе более пристального и подробного феноменологического анализа, при этом «что-то» становится «кем-то» – инстанцией, обладающей структурой личности, или, больше того, сверхличности. Должно быть, мы последние из тех, кто не решался назвать эту сверхличность тем именем, которым ее наделило человечество. Это имя – Бог.
Мы говорим о сверхличности так, как если бы о ней в данном контексте можно было говорить в среднем роде. Однако тем самым мы превращаем инстанцию с чертами личности в вещь, обедняя ее. На самом же деле нельзя говорить о Боге как о вещи, о чем-то, об «этом», да и, пожалуй, как о «ком-то». Можно говорить только с Ним как с собеседником, как с «Кем-то», с неким «Ты»[51].
За человеческим «сверх-Я» стоит божественное «Ты». Совесть – это трансцендентное «Ты»[52].
Человек имеет метафизическую потребность, однако у него также есть и потребность символическая. Насколько глубоко закреплена и укоренена в нас эта врожденная символическая потребность, можно наблюдать в повседневной жизни обычного человека. Ежедневно и ежечасно он использует символические жесты, например, приветствуя кого-то или выражая кому-то свои пожелания. С рационалистической, утилитаристской точки зрения все эти символические жесты бессмысленны, поскольку они и бесполезны, и бесцельны. На самом деле они вовсе не бессмысленны – они просто бесполезны и бесцельны или, вернее, не служат какой-то определенной цели