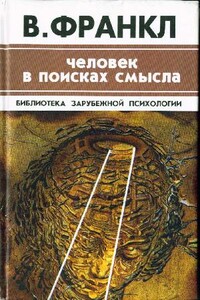Логотерапия и экзистенциальный анализ: Статьи и лекции | страница 61
В свете этого диалектического единства и целостности, в которую в человеческом бытии-в-мире сливаются психофизическая фактичность и духовная экзистенция, оказывается, что строгое разделение духовного и психофизического в конечном счете может быть только эвристическим! Подобное разделение не может не быть чисто эвристическим уже потому, что духовное не является субстанцией в привычном смысле этого слова. Напротив, оно представляет собой онтологическую сущность, а об онтологической сущности ни в коем случае нельзя говорить так же, как об онтической реальности. Вот почему о «духовном» мы всегда говорим в псевдосубстантивных выражениях и используем субстантивированные прилагательные[40], избегая существительного «дух», которым может быть обозначена только субстанция.
И все же строгое разграничение духовного и психофизического неизбежно и необходимо потому, что духовное само по себе является самоотграничивающимся, самоотчуждающимся. Духовное отчуждает само себя, как экзистенция отчуждается от фактичности и личность – от характера подобно тому, как фигура отделяется от фона.
Очевидно, что от точки зрения, с которой мы рассматриваем человеческое бытие, зависит, что попадает в наше поле зрения: преимущественно его единство и целостность или его разделение на духовное и его противоположность – психофизическое. В таком случае нам будет казаться, что в исследованиях в русле «бытийного анализа» больше внимания уделяется единству, в то время как наш экзистенциально-аналитический исследовательский подход подчеркивает множественность. Понятно, что, если перед нами стоит задача анализа (как бытийного, так и экзистенциального), нам важно раскрыть единство человеческого бытия, а для целей психо– или логотерапии важна его множественность!
Как известно, поставить диагноз – это одно дело, а вылечить больного – совсем другое. Чтобы излечиться, больной должен каким-то образом постараться внутренне абстрагироваться от своей болезни, если не сказать, абстрагироваться от своего «без-умства». Если же с самого начала я буду относиться к болезни как к чему-то, что полностью захватывает и преобразует человеческое бытие, диффузно проходя сквозь него, я никогда не смогу постичь «собственно» больного – ту (духовную) личность, которая стоит за любым (и над любым, в том числе душевным) заболеванием; в этом случае передо мной оказывается всего лишь болезнь и ничего, что я мог бы противопоставить болезни, противопоставить неизбежной и фатальной необходимости существовать в мире так (страдая от меланхолии, мании или шизофрении) и никак иначе.