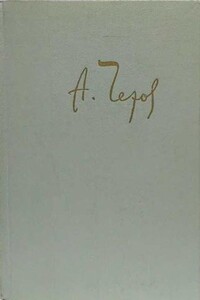Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 | страница 181
Баба в ушастом платке рвалась в работе, как захлестанная кнутом кляча, чтоб покрыть какую-то несодеянную, но непрощаемую вину. А девка ходила с незаживающими рубцами, с темно завалившимися глазами, — отец бил без передышки.
Разговелись медом и яблоками. И по мере того как отходили работы, их напряженность и спешность, Иван судорожно хватался за всякое дело, только об одном помышляя — дожить до срока, и по ночам за садами неслись обрываемые крики, вой и плач.
Раз ночью там никто не кричал, а Иван, вернувшись, злобно кинул вожжи.
— Убегла. Ну, завтра наверстаю, всю кожу спущу.
Когда все заснуло, мать тихонько выбралась и долго ходила, белея, между деревьев в саду. Было тихо и сонно, только с луга и со степи неслось бесчисленное треньканье. И тихо стояло:
— Гаш... а, Гаш!..
Пусто. Баба стала дрожать, и все стояло в саду — несмелое, полушепчущее:
— Гаш!
Вышла на луг. Он был темен, едва видно под ногами. Долго и одиноко ходила, дрожа. У дороги смутно над черной землей маячило белое пятно.
— Гашка!
Девка, сидя в пыли, беззвучно качалась.
— Ну, вставай.
Та поднялась.
— Замучилась я...
Постояли, и мать сказала:
— Иди, Гашенька, у город... И там люди живут...
— Замучилась я...
— Иди, Гашенька... Вот я тебе каравайчик припасла... Господь тебя сохранит, царица небесная... Ну, слышь...
Она ее притянула, поцеловала и крестила в темноте. Та пошла мягко, беззвучно по пыли босыми ногами и остановилась. Они стояли так в нескольких шагах, смутно различая только белеющие пятна. И вдруг материнскую шею обвили крепкие руки, и в самое ухо теплое дыхание:
— Страшно, мамунька!..
Так они стояли, крепко держа друг друга, роняя слезы на грязные шеи. А когда ушла, над дорогой была только темнота, и в темноте долго белела мать...
Над лугом в одном месте посветлело, — хотел всходить месяц. Надо было идти спать.
Захолодали утренние зори, но еще в полную беспощадную силу палит днем солнце. Неоглядная степь. Сколько хватает глаз, знойно желтеет щетина снятого хлеба, и по дороге, толсто застланной пылью и затрушенной золотой соломой, тянется повозка.
Разморенная лошаденка в веревочной сбруе равнодушна к полчищам снующих мух; баба, вытянув костлявое лицо, глядит в неведомую даль, чмокая иссохшими, сине-потрескавшимися тонкими губами, дергая веревочные вожжи:
— Но-о... но-о-о, милая!..
Через грядку, свесившись в согнутых коленях, болтаются черные, полопавшиеся от земли и загара босые мужичьи ноги, и три ребячьи головенки жмутся в угол, стараясь не притрагиваться к больно разогретому дереву.