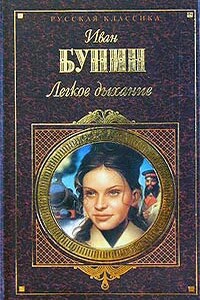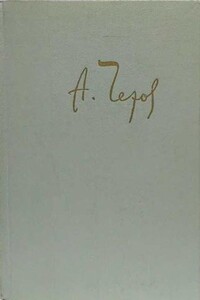Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 | страница 175
Женщина, безнадежно глядя вперед костлявым лицом, без устали дергает веревочные вожжи и чмокает истрескавшимися синими губами:
— Но-о... Но-о, стала...
Разморенные жаром ребячьи головенки не держатся на шее, валятся то на ту, то на другую сторону.
Мужик, с красным, пылающим, точно из бани, липким от пота лицом, черным раскрытым ртом, в который бьет солнце, и мотая от тряски из стороны в сторону головой, лежит навзничь, свесив через грядку согнутые в коленях ноги, храпит, мучительно захлебываясь, на минуту замолкая, перехваченный удушьем, и опять заглушает храпом одинокий скрип повозки.
Неведомо откуда взявшийся чибис медленно летает над повозкой и над лугом и жалобно, тонко кричит: «Чьи-и... ви! чьи-и-ви!..» — жалобно и безнадежно, как будто, кроме этого иссохшего сереющего луга, ничего нет на свете.
«Чьи-и... ви?..»
— Маму-уня, папу-уня задавил...
— Нишкните!.. Проснется — будет вам...
Ребятишки жмутся в самый угол повозки, стараясь не притрагиваться к обжигающему дереву. Качается мертвое тело с согнутыми ногами. Носится белая, с черно-опаленными крыльями птица, как потревоженный дух, с жалобным криком и все спрашивает, не ожидая ответа:
«Чьи-и... ви?..»
— А?.. А?.. Чего такое?.. Но!.. Но!.. — испуганно и беспокойно заметался мужик, с красными, как мясо, глазами, с соломой в космах, с иссохшей в углу рта слюной, к которой неотступно липли носившиеся мухи, и, выхватив вожжи, задергал.
— Што ты!.. Ополоумел... Окстись...
Лошадь стояла. Далеко позади над дорогой, ее заслоняя, висела нетревожимая пыль.
Горы возле. И они уже не сизые и манящие, да и не горы это, а просто неровные, размытые обрывы, а за ними поверху нескончаемо уходит степь. По подошве тянутся сады.
У дороги сереет сруб колодца и, наклонившись, заглядывает в него длинный журавель с висящей на конце веревкой и железным крюком для ведра. Из-за верб домовито глядит соломой крыша.
— Должно, постоялый.
Мужичонка отвязал под повозкой ведро и стал поить лошадь. Детишки вылезали, расправляя затекшие ножонки; баба подбирала по дороге солому, высохший навоз, разожгла и повесила на треноге котелок. Жар, пыль, мухи, иссохший, истрескавшийся простор как будто остались позади, и куда-то приехали, и как будто не надо уже опять ехать по сожженной степи, куда глаза глядят.
Мужичонка, обобрав слегка из бороды и усов солому и независимо похлопывая кнутом по вспыливающей дороге, подошел к жердевым перекосившимся воротам.
— Эй, хозяин!