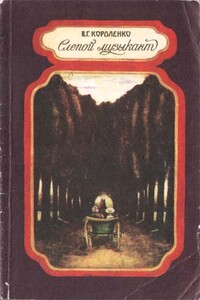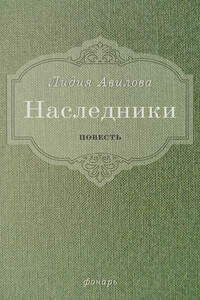Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 | страница 141
— Сколько тебе лет?
— Тридцать два.
— Стало быть, двадцать семь лет работал батраком на своего дядю. Двадцать семь лет недоедал, недосыпал, все пас стада своего дяди Муссы. Толстый дядя?
— Балшой живот.
— То-то...
И рассказала серая куртка ему всю его жизнь, всю жизнь Адимея-батрака...
— Женат?
— Где бедному жениться...
— А у дяди красивая молодая жена — большой живот и красивая молодая жена.
Жадно курил Адимей. И держал одной рукой сердце — будто кто тихонько и ласково погладил по наболевшему сердцу.
А куртка:
— Чудаки вы... Да у нас вон вся Россия полна такими Адимеями-батраками. И века работали на дядей-помещиков. И у дядей были большие животы и красивые жены, а у русских Адимеев — только бедность да нескончаемый труд.
Всю жизнь, всю жизнь Адимея-батрака рассказал Адимею-батраку.
А потом... а потом у Адимея голова пошла кругом.
Тот, в серой куртке, придвинул ему бумагу и сказал:
— Вот тебе бумага. Никто тебя не тронет. Живи. А эту ты подпиши, что больше не будешь бандитствовать. А это — деньги. Надо же тебе сбить хозяйство.
Шатаясь, вышел Адимей, и никто его не тронул. И шел он вдоль реки, и никто его не тронул. И пришел в горы, и никто его не тронул.
И стал жить Адимей, и подвал, и расстрелы, и убийства красноармейцев — все это мелькающим прошлым побежало назад, как вода в реке.
И никто его не тронул.
Сидит Адимей в черкеске в сельсовете, с трудом пишет — он член президиума. Против, на лавке, — тот, который два года назад велел развязать ему руки. И кашляет, и лицо — желтое.
И говорит ему Адимей:
— Ничего, Николай, поправишься. У нас воздух чистый, здоровье любит. Пойдем, провожу. Полежи, отдохни.
Они пошли. Адимей шел, поддерживая. И толкнул в бок локтем:
— А?! Город-то наш!..
Среди скал, ущелий, дремучих лесов, возле грохочущей реки желтели свежие срубы новых строений: больница, народный дом, школа — как из земли вырастали.
И Адимей и питерский рабочий шли мимо, поглядывая и держась друг за друга...
ГОД
Когда комсомольская братия собиралась, дым шел коромыслом. Особенно, когда девчата были. И особенно среди них Манька Лунова.
Толстая, кругленькая, краснощекая, и из глаз всегда сыпались насмешливые искорки, точно в постоянно бегущем ручейке непрестанно дрожало хитрое солнце. Того дернет за ухо, — того оттаскает за вихор или шапку швырнет в окно, — и такой галдеж подымется, такая драка, хоть беги вон. Хозяйка, заведующие спальнями, коменданты общежитий терпеть ее не могли и гнали.
— Манька, и в кого ты таким дурным дьяволом уродилась? — говорит ей плечистый, черный, как арап, комсомолец, с неправильным, приятным, запоминающимся лицом, железно держа ее руки, чтоб не вцепилась. — Али мать твоя, как носила тебя, бешихи объелась? Ну, ты смотри, а то, ей-богу, по уху дам.