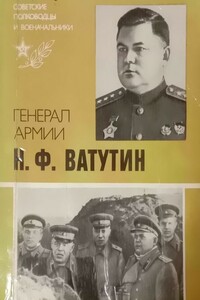Адмирал Л. М. Галлер | страница 56
Галлер знал, что план строительства Ревельского укрепленного района был утвержден в Петербурге еще в начале 1912 года. Но Военное министерство, в ведении которого находилась береговая оборона — и приморским крепости, и батареи, не спешило с его осуществлением. Средства расходовались первым делом на строительство крепостей в Царстве Польском — на сухопутном театре будущей войны с Германией и Австро-Венгрией. Тогда Эссен стал добиваться передачи всех приморских крепостей на Балтике в свое подчинение. И в начале 1913 года Военное министерство передало Морскому министерству Ревельско-Порккала-Уддскую крепость, тут же переименованную в Крепость Петра Великого. Работа закипела, но на все нужно время. Да и с поставками артиллерии было плохо: для батарей на островах Иарген и Макилуото, на полуострове Сурон (Суурупи), которым предстояло перекрыть огнем устье Финского залива, еще не изготовили четырнадцать орудий калибром 356 миллиметров, таких же, как на заложенных линейных крейсерах типа «Бородино». Не было для установки в этом же районе и восьми 305-миллиметровых орудий для батарей на островах Нарген и Вульф. Пришлось срочно оборудовать временные батареи из орудий калибром 203 миллиметра на островах Макилуото и Нарген. Галлер работал в комиссии, их принимавшей. Временные батареи, конечно, лучше, чем ничего, но дальность стрельбы их орудий была недостаточна, Финский залив огнем они не перекрывали. Таким образом, в случае если тральщики германцев попытаются проложить путь через минные поля ЦМАП где-то на широтной оси залива, остановить их продвижение смогут только атаки кораблей.
В отпуск за 1914 год Галлер ушел в феврале: Вирениус жаловался на здоровье, осенью собирался на воды в Виши. А заменял флагманского артиллериста штаба бригады обычно Лев Михайлович. Вот так получилось, что он не потерял в том году отпуск, успел убыть до начала войны. Те недели зимы в мирном еще Петербурге остались в памяти на всю жизнь. Удивительно безмятежны они были… Казалось, все идет хорошо: опять в стране урожайный год, строятся новые заводы, в городе — на Петербургской стороне, у Смольного монастыря и Таврического дворца, да и во многих иных местах, поднимаются прекрасные многоэтажные дома в стиле модерн. Петербург хорошел…
Лев Михайлович в тот отпуск не пропустил ни одну новинку театрального сезона. Ходил с сестрами на премьеру «Золотого петушка» Римского-Корсакова, на «Соловья» Стравинского. В «Золотом петушке» приводили в восторг прекрасные танцы, поставленные Фокиным, декорации и костюмы А. Бенуа и Н. Гончаровой были выше всяких похвал. И танцевала Надя… Лев Михайлович видел только ее. Видимо, сестры — и Антонина, и Женя — заметили, что слишком долго не опускает бинокль. Знали ли они, самые близкие ему в семье, единственные, кому он поверял с детских лет свои мысли и чувства, о Наде, о том, что было между ними? Знали ли, что сердце его разбито? («Старомодно звучит, по-карамзински, по ведь и вправду — разбито…») Что-то знали, быть может, видели брата с Надей в Летнем саду или в Таврическом, на Островах… И главное, чувствовали, наверное, его боль…