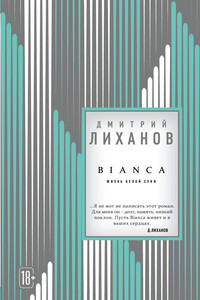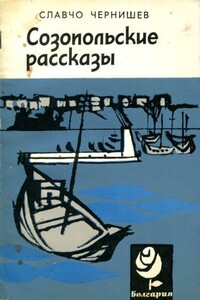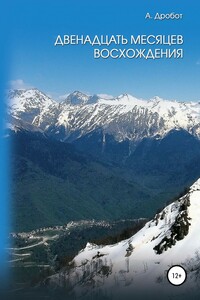Не поворачивай головы. Просто поверь мне | страница 62
В жизни солдата, как в жизни ребенка малого, много физиологии, оправки, прямой кишки, пищеварения. Солдат — это организм, оставляющий за собой лужицы и кучки, то лужицу, то кучку, и куда его ни целуй — все равно попадаешь в жопу (старшина Чмырь). На одной этой шпионской фотографии солдат, задрав голову, считал галок на небе, на другой присел на корточки в позе орла, на третьей, подтянув штаны, уже вносил рацпредложение, молодец такой, отличник боевой и политической подготовки…
С наступлением новейших времен купил сканер и уселся разбирать фотоархив. Сканировал слайды, фотографии, начал с детских, конечно: дочь, жена, деревня, река, природа. Целая эпоха уходила на глазах: пленки с эмульсией, засветка, химпроцесс — проявитель, закрепитель, первая фотография моя, отпечатанная собственноручно под руководством отца, — ощущение чуда при виде проявляющегося на фотобумаге изображения в красном свете фонаря, острое и волнующее, неимоверное по силе, — неужели наши внуки будут этого лишены? Сваленные на антресолях в коробку механические камеры от «Никон-2» до «Киев-6» — громадной, широкопленочной, отец получил по разнарядке как фотокор республиканского агентства, инвалид войны, лучшая фотокамера империи, розовая мечта фотолюбителей всей страны. Ушла эпоха — а что пришло на смену? Цифровые сканы.
Как-то послал рассказ жены по е-мэйлу японской переводчице. Скромная токийская русистка Сэцу Канэмицуподкармливала в самые злые годы 90-х. Я звонил по телефону, назывался, чувствуя себя шпионом, в ответ заслушивал прочитанный по бумажке текст про «памик Пушькин» и выходил на свидание с японским человеком, молча передававшим мне «вещь» — конверт с авансом в 100–200 долларов, версткой, потом на задах Савеловского находил эту квартиру и, назвав себя, попадал в странное место за железной дверью: трое японцев сидели в заставленной до потолкааппаратурой комнате и неотрывно смотрели в мониторы, отвлекаясь, чтоб ответить на приветствие и вручить прилетевший с нарочным журнал. Журнал «Иванушка» с рассказом жены, с полосными иллюстрациями в духе соцреализма 50-х, с заголовком на задней странице обложки меня не убеждал, японские иероглифы походили на птичьи следы. Я пытался угадать, который из рассказов — жены, и накладывал ее фамилию на вязь древоточца, считая знаки — этот? А может — тот? Дома проводил эксперимент: жена как автор должна угадать свой текст, рассказ не может не отозваться под взглядом создателя и подушечками ее пальцев. Ни фига не угадывала и в досаде отбрасывала журнал в угол. То ли это было, что женой писалось? А может, пройдя сквозь руки стольких посредников, рассказ превращался во что-то другое? Оцифрованный, разобранный на кирпичики из чередующихся единичек и ноликов и прилетевший по проводам текст что-то терял неизбежно и переходил в новое агрегатное состояние. Ведь цифра не есть буква. Испокон веков было так: отдельно цифра и отдельно буква. Ч т о вылетело из моего «Макинтоша» и ч т о прилетело по проводам в Токио? Что за текст получился и что это за писатель, манипулирующий трансформерами текстуально-цифровыми, может, это и не писатель уже, а ножка от радиолампы? И нет ничего удивительного, что автор не может угадать свой рассказ — японские иероглифы тут ни при чем. Потому что он уже не автор, а в лучшем случае соавтор этому пространству и этому лучу лазерному, системе кластеров, потоку электронов.