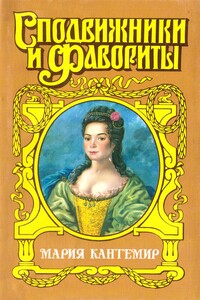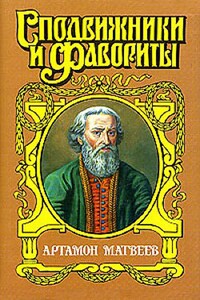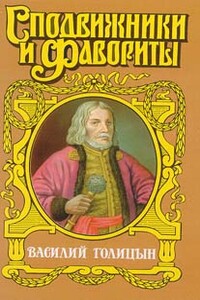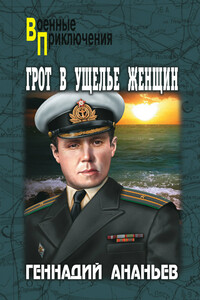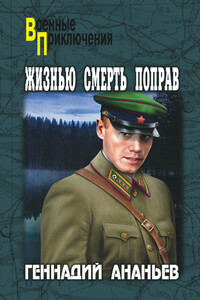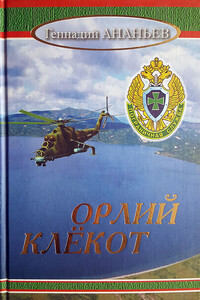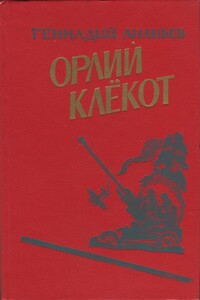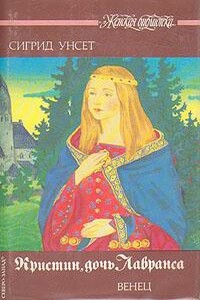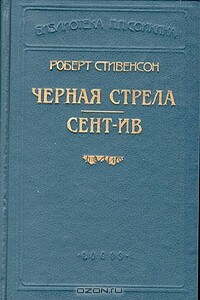Вокруг трона Ивана Грозного | страница 65
Вот в таком примерно стиле вся переписка. Один, Курбский, оправдывает своё бегство во вражеский стан; второй, государь Российский — свою жестокость и отъявленное скоморошество, но избегает в них разговора о главном. Воспроизводить все их послания (тем более что они неоднократно издавались в полных списках) в кратком биографическом очерке вряд ли целесообразно, но проанализировать содержание этой переписки, её особенности можно. Вроде бы сокровенное в тех посланиях, а приглядишься — похвальные слова о себе и хула на другого. Не гнушаются даже вымыслами. О главном же противоречии, как я уже сказал, ни слова, только иногда намёки проскальзывают.
В России той эпохи противостояли друг другу два религиозных и философских течения. Одно, вдохновителем которого принято считать Иосифа Волоцкого, являлось проводником византийских взглядов на самодержавную власть государя; второе — защищало старый образ правления, свободно-договорной с удельными князьями, и опиралось на идеологию заволжских старцев. Иван Грозный был борцом за централизованное государство, за единовластие, то есть образа правления вполне прогрессивного для того времени. Впрочем, не только для того времени, но и для сегодняшнего — Иван Васильевич наследовал свою власть от деда и отца и старался сообщить ей новую силу, хотя в той борьбе доходил до опьянения и даже до безумства.
Курбский же был ярым сторонником добровольно-договорного порядка, который многие века терзал Россию междоусобной борьбой и изжил себя полностью. Поэтому считать Курбского либералом, борцом за демократические идеалы, как это делают иные биографы князя, можно лишь с определённой натяжкой.
В посланиях ни тот ни другой не высказывают чётко и своих взглядов на устройство лучшего общежития, более ладной формы правления в соответствии с требованиями времени. Что сдерживало их, знали только они сами.
В Польше князь Андрей Михайлович Курбский прожил девятнадцать лет, о которых осталось свидетельств больше, чем о делах князя в бытность его на родине. Отзывы об его жизни в эмиграции почти не разнятся: он не любил Польши, хлеб которой ел. Только иногда проскальзывает причина той нелюбви: Курбский стоял за православие, не приемля католичества. В этом была его трагедия. А ещё в том, что ему не особенно доверяли. Его советы как воеводы брались под подозрение, и он со скандалом ушёл из воеводства, принялся за самообразование (много свободного времени и наличие средств на безбедное существование позволяли это делать) и литературную деятельность, если так можно выразиться. Кроме трёх посланий Ивану Грозному, он написал «Историю о великом князе Московском». Он начал было перевод с латыни на славянорусский творений Иоанна Златоуста и даже послал первые свои опыты князю Острожскому, как православному, но каково же было возмущение Курбского, когда он узнал, что тот перевёл результаты его кропотливого труда на «варварский» польский язык. Возник скандал, переросший в публичную полемику, в которой Курбский яростно нападал на католицизм, в пылу, к примеру, иезуитов называл волками, которых пустили в овчарню.