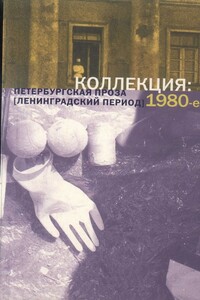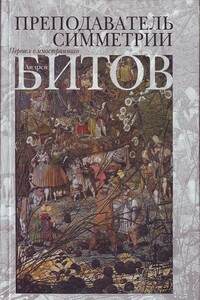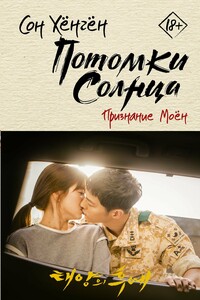Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е | страница 10
«Принцип автономного человеческого существования» утверждается в прозе Чирскова как своего рода дар, ниспосланный страдающему человеку, герою, который у этого автора самым прямым, хоть и романтическим, образом «живет не только во времени, но и в вечности, не только в пространстве, но и в бесконечности».
Чирсков не был «романтиком» в обиходном значении этого слова, но он был «человеком романтизма». Его Ленинград — это та самая северная столица, о которой Александр Блок писал как о «глухой провинции», как о «страшном мире», из которого исчезли «стихии». Также и для Чирскова Петербург перифериен в масштабе Вселенной. В этой «провинциальности», в этой «ничтожности» — вся прелесть и весь дорогой сердцу автора смысл, открывающий в прозе Федора Чирскова тему «странной», лермонтовско-блоковской любви к родине.
Нет ничего удивительного в том, что изображаемый прозаиками шестидесятых тип личности оказался не всегда жизнестойким, но всегда способным к творчеству. Презрев напяленную на него шинель, «маленький человек», о котором полтора столетия со снисходительным или сострадательным пафосом заботились титаны мысли, теперь сам кроит гениев по своему образу и подобию. И никто ему не ровня.
Такова «поэзия жизни», открытая ленинградской прозой шестидесятых.
Ее авторы пишут как бы от лица «маленького человека», будучи при этом весьма большими искусниками в словесной области. Даже если они изъясняются от первого, весьма незначительного лица, их скромность неотделима от чувства собственного достоинства. И прежде всего, они не хотят становиться на котурны, не хотят проповедовать. Никто из них, какое бы он ни привлекал внимание читателя к своему внутреннему миру, не позволял себе завышать уровень самооценки — повальная беда не затронутых «петербургским веянием» молодых авторов той поры. «Ханжи ждут гениев!» — воскликнул Рид Грачев.
Едва ли не одним этим решающим душевным свойством — насмешливой корректностью самоидентификации — завоевал сердца читателей Сергей Довлатов. Из ленинградских шестидесятых он переселился в нью-йоркские восьмидесятые и уже там «всему миру» доказал, что художественный артистизм — изначально в природе маленьких вещей и людей. Как бы там ни называть довлатовского рассказчика, в глаза бросается, что он — не ангел. Не будет натяжкой умозаключить: лишь падшим внятен в Петербурге «божественный глагол».
Как раз в ту минуту, когда «петербургское веяние» окончательно сходило на нет, развеялось по коммуналкам, подвалам и мансардам, оно дало о себе знать вновь. Серебряный век, отпетый Михаилом Кузминым, Константином Вагиновым, обэриутами и, наконец, погребенный в ахматовской «Поэме без героя», был реанимирован с восторгом, вряд ли ведомым самим его бывшим насельникам.