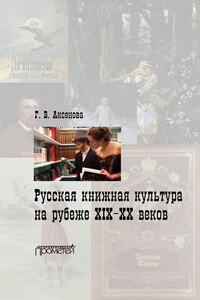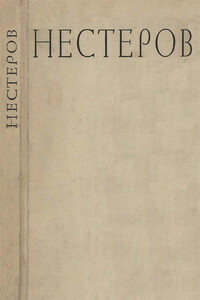От слов к телу | страница 42
Романтический финал первого стихотворения плавно перетекает в истерический дискурс второго[167]. Далекое «он» сменяется непосредственным «ты»: грамматическое расстояние между партнерами сокращается до интимного. «Ты» и становится объектом истерики — не столько смятения, сколько полного любовного помешательства. «Природное» пытается прорваться сквозь «этикетное»: на смену симптоматическому побледнению приходит бесконтрольный, казалось бы, поток коммуникативных актов — обвинений, вслух, впрочем, не проговариваемых. Монолог открывается страстными жалобами на нелюбовь партнера, и первой уликой служит тот немаркированный факт, что он на нее не смотрит, трактуемый, однако, как жест намеренного игнорирования. Следует восклицание — про себя — о губительной красоте героя и симптоматическое временное ослепление ко всему, кроме партнера, представленного крупным планом цветка — щегольского знака его этикетного костюма, под стать его красоте и самовлюбленности. Зацикленность героини на партнере передана словесным жестом повтора, перебрасывающегося через строкораздел: …тюльпан / Тюльпан… Заодно в ход пускается любимый АА куртуазный язык цветов[168]: краснота тюльпана кодирует любовь и чувственность (подогревая любовные ожидания героини), а его грамматический род — мужские достоинства его владельца. Но самому партнеру слово не предоставляется.
Третье стихотворение построено по формуле отказного движения. С точки зрения героини, назревает любовное сближение, пока не оказывается, что она ошибалась. Герой держится этикетных правил, но ведет себя несколько развязно. Он подходит к героине и вступает с ней в контакт при помощи сначала мимики (улыбки), затем физического жеста (поцелуя руки) и, наконец, визуального контакта, которым подхватывается мотив магической лучистости его глаз из первого стихотворения. Хронологические и кодовые рамки мизансцены внезапно расширяются, чтобы включить древние лики святых, подтверждающие судьбоносность встречи