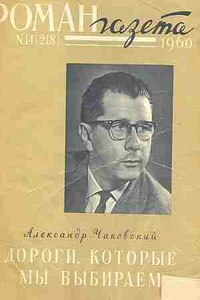Без покаяния | страница 13
Фитиль спускает Ватные шаровары, которые держатся у него на одной пуговице, горбится враскорячку, чтобы как-нибудь не уронить штаны с колен. Дворкин, словно портной, вертит его манекеном, сбочив ершистую голову. Приглядывается, прищуривается, а там и без очков видно, что ягодиц у человека нету вовсе, в сухой костяк таза воткнуты две бледные палки — ноги, значит…
— Прокурил зад? — гневно тыкает большим пальцем лекпом в то место, где вместо ягодицы дрожит пустая кожная сумка. — Одевайся! Следующий!
«Сил нету, ослобони!..» — молча, глазами, просит фитиль.
— Давай, давай! Много вас… Блюденов, гони в шею! Следующий…
Ленька так понимает, что Дворкин — сволочь и настоящая контра и его бы давно нужно шлепнуть, однако у начальства какие-то свои мысли на этот счет. Какие — понять нельзя, но определенно дурацкие. Либо и того хуже…
У Леньки прошлой зимой дружок дошел, Костя Кожевников. Короче, пеллагра его съела, а освобождения в порядке живой очереди никак дождаться не мог. Копался парень в помойках, выбирал селедочные головы — тогда они еще водились там, а потом как-то втерся на кухню, дрова вроде подносил, и стянул там саксан с длинной ручкой, каким капусту шинкуют. Стянул — и в нужник. Ленька за ним, потому что почуял неладное. Но не успел помешать, у дверей услышал сухой хруст и болезненный хрип.
Короче, отрубил Костя три пальца на грабке. Положил, значит, ладонь на затоптанные, пропитанные мочой доски и, зажмурясь, секанул ножом наискосок… Ленька видел кончики пальцев на мокрой доске — три голубых ноготка, которые, ему показалось, еще плясали и вздрагивали от боли и ужаса. А Костя горбился возле, тоже позеленевший, с остановившимися глазами, прижав куцую ладонь к животу и прикрывая ее другим локтем. А на кордовый ботинок из-под локтя мерно капала бледная, голодная кровь.
Саморубов запрещено освобождать от работы. Но в кондей его тоже не сажали: все же есть человеческое в душе и у комендантов. Да что толку! Долго ли протянешь на трехсотке? Ошивался он около кухни с замотанным грязной марлей кулаком, потом пришел такой день, когда Костя переступил запретную черту, шакалом стал: в обед схватил со стола чужую горбушку.
Ленька это видел тоже, но лучше бы этого никогда не видеть, братцы!
Толпой сбили с ног в тамбуре, куда он кинулся с хлебом. Лупили кулаками, топтали ногами, а пострадавший, у кого Костя отвернул горбушку, плакал слезой и душил, давил Костю за пищик, все хотел достать изо рта раскрошенный хлеб… Да где ж там! Костю охаживают по ребрам кулаками и кордами, бьют в морду, а он извивается на полу, как змей, и жует, давится сухим хлебом! После этого он уже не ходил, а ползал. Потом и вовсе слег. И никто его не пожалел: шакал. Умей и доходить-то по-человечески, падло! Как-то не поднялся он за утренней баландой. Дневальный глянул: вроде не дышит. И — в санчасть.